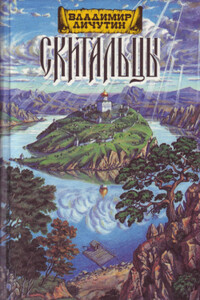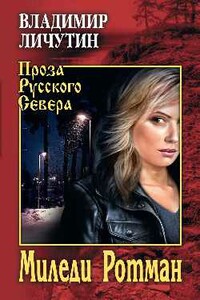Любостай | страница 41
От неожиданности у Бурнашова поначалу отнялся язык. Но вот опомнился, ухватил Толю Реброва за ворот серого дешевенького пиджачишка и ловко повернул к себе спиною, хотя незваный гость был на голову выше. Толстая шея с крупной бородавкой налилась кровью, но громоздкий мужик непонятно робел и лишь мычал что-то, покорно подчиняясь Бурнашову. Алексей Федорович вытолкал гостя на волю и пообещал вослед: «Вот приди только, я тебя наугощаю палкой по загривку». «Убьем, сказали, убьем!» – кричал Толя Ребров, утвердившись прочно посреди заулка, и сиротливый зеленый глаз его метал молнии. «Иди давай, иди». Бурнашов вернулся в дом и сразу успокоился. Сын Чернобесова, варнак, устроил свару, кому больше. Развесил шабалы по деревне, все с помойки собрал. Но опять же, подумалось вдруг, устами юродивого глаголет истина.
Случилось это за год до схватки с Чернобесовым.
И вдруг одиноко стало Бурнашову. Он покинул резное креслице и посмотрел в окно. Наледь на стеклах расплавилась, и сейчас улица виделась обнаженно, слепяще. Белая мгла растеплилась под полуденным солнцем, слегка парила, словно облитая парным молоком, и только в западинках, в отрогах сугробов, в продавлинках редких следов хоронилась густая синь. И вдруг Бурнашов насторожился. Он мог побиться об заклад, что кто-то плачет. Над потолком в светелке тонко заскрипело и смолкло. Ни звука, ни всхлипа, никакого намека на слезы, но отчего-то душе Бурнашова слышался чужой жалобный плач. Выглянул на кухню, Лизаньки не было. Накинул душегрею, из сеней лестницы поднялся под крышу, распахнул дверь, обитую кошмой. В летней светелке на диване, сжавшись в комок, лежала жена и по-щенячьи всхлипывала, ее острые плечи под вязаной кофтой вздрагивали как от озноба. Бурнашов подкрался, погладил Лизину светлую головенку, грубые его пальцы почти не расслышали рассыпчатых тонких волос.
«Ну прости, слышь? Прости старого дурака, – перебарывая комок в горле, попросил Бурнашов и вдруг сам едва не заплакал, так защемило глаза. Ах ты, старик, старая кляча, упрекнул себя. Совсем раскис, глаза на мокром месте. – Лизанька, я тебя искренно и глубоко люблю. Ну вот такой я дурак. Что хошь делай, такой дурак. Ты прости сивого мерина».
Крохотное ушко напряглось, плач затих, и, не поворачивая мокрого лица, Лизанька обиженно сказала: «Палач ты и тиран. Сначала доведешь до слез, потом на колени. Тебе нравится мучить ближнего, ты испытываешь удовольствие, а может, и наслаждение. «Прости, прости!» Долго ли еще прощать? До гробовой доски? Я тебе жена, кукла иль рабсила-скотница?» – «Ладно, ладно. – Бурнашов пробовал повернуть Лизанькино лицо и расцеловать, но жена упрямилась, не давалась. – Не палач я, здесь не согласен. Я князь света». – «Нет, ты князь тьмы. Ты вокруг себя все разлагаешь. Ты эгоист до мозга костей. Ты разлагаешь все, к чему бы ни прикоснулся. Для тебя нет ничего святого на свете».