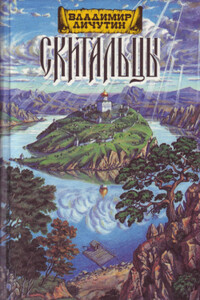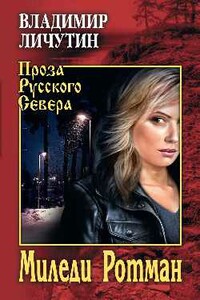Любостай | страница 30
И вдруг снова за окном запричитал кот, потом взбренчало над колодцем ведро, пролилась долгой струею вода, и Лиза поняла, что ночью беспомощно скрипел старый расшатавшийся вороток над срубом. Вот откуда эти ночные звуки. Как одушевленна сама ночь. А мы всё полагаем, что она мертва, и в эти часы безраздельно властвует над человечьей душою подручный сатаны. Ан нет, и среди нашего брата находится бодрствующий страж, тот бессребреник-караульщик, что досматривает за спящей деревней. Да и то: пройдись самой глухой предутренней порою, не поленись, и вдруг в дальнем околотке забрезжит, замаревит оконце, оранжевый сполох пробежит чередою стекол, встряхивая темень.
Но кому же понадобилось середка ночи идти за водою? Кому приспичило? Знать, кто-то брал воду из трех колодцев, чтобы спрыснуть от сглаза иль от приворота. Именно из трех колодцев, и чтоб наодинку, чтоб никто не надзирал да чтобы никто не касался ведра. Верят же, значит? А мы думаем всё: кончилась, заснула в коростах языческая душа. А она жива. Ведь среди ночи, боясь чужого любопытства, шел человек к трем колодцам за водою, чтобы успокоить от надрыва детскую напрягшуюся душу. И в этом тоже связь меж темнотой колодезя, водой сердечной, родниковой, и душою, еще не испятнанной, не испугавшейся. Но постой-ка, кто в Спасе из детского возраста? Самый младший, заскребыш и единственное дитя на деревне, Колька Чернобесов, оторви и брось, сын Виктора Чернобесова, но и тому скоро четырнадцать. Уж такой бесенок, в игольное ушко влезет, лисою обовьется. Урка растет, как и папаша…
Тут сразу вспомнился Лизе Виктор Чернобесов, сосед, мужик касимовских кровей с подозрительным прищуром и постоянной улыбкой на оперханных губах, словно бы ему, Чернобесову, известна про всех особая тайна. После той затяжной печальной истории, принесшей Лизаньке столько слез, Чернобесов первый повинился: «Ты прости, Лизавета. Нельзя уж и подурачиться. А он взаболь принял. И ты хороша, эх». – «Хороши шуточки. А ум-то у тебя есть?» – «Зато вы больно умны. Ты барину своему напомни. Я ему охотку отобью топором шарашиться. Я ему шишку набью». – «Ладно, ладно, не грозись. Кулаки чешутся, об стенку почеши. Моли бога, что обошлось. И племянника больше не засылай на грех. Бурнашов крутой». – «Бары, ой бары. Их везде прикроют, – гундосил, уходя, Чернобесов. – Рука руку моет. Да ничего, отольются мышкины слезы…»
Утром, спозаранку, главное – решиться покинуть нагретые постели да поскорей набросить на себя несколько кофтенок, плеснуть в лицо настылой за ночь воды из рукомойника – и вот ожила баба, перья расправила, закрутилась в обрядне. Лиза запалила русскую печь, подсохшие за ночь поленья принялись сразу, пламя гудящим столбом ударило в обгоревший свод, пошло лизать утробу, а отраженье его заплясало по кухне. Только крохотная лампешка горела в запечье, в горнице же хранился мрак, и печное пламя, по-лисьи выгибаясь в дымоход, едва разбавляло его. Лизина тень выросла, метнулась в потолок. За ночь тело как бы немеет, руки чужеют, и поначалу все валится из них, и ты, полусонная, как утка, перекачиваешься из кухни да в сени на остамелых ногах. Но вместе с живым струящим теплом, ударяющим в переднюю стену из устья печи, в голове как бы кто-то кропит живою водой, вдруг в пот ударяет, и твои глаза уже по-иному смотрят на белый свет. И если выметнуться той порой на волю и взглянуть на восток, различишь там едва заметное броженье, там словно бы слабым луковым отваром полито: это благословенный, превеликий батюшка неторопко попадает с полуночной стороны, это заря-раноставка спешит поднять на земле весь великий скопившийся люд.