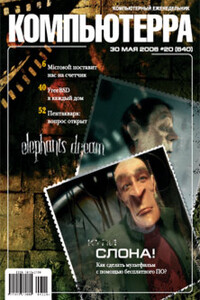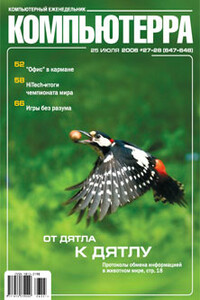Компьютерра, 2007 № 35 (703) | страница 44
Кстати, есть важные эксперименты с мутациями бактерий, проясняющие некоторые аспекты возникновения многоклеточности. Берутся бактерии, которые живут в толще воды и плавают поодиночке. Когда они используют весь кислород в этой толще, преимущество получают те, кто всплывет на поверхность. Но у этих бактерий иногда происходит мутация, в результате которой они выделяют порции липкого вещества. Делясь, мутанты остаются склеенными. Важно, что склеившиеся бактерии автоматически всплывают на поверхность – в отличие от одиночных. На поверхности начинают образовываться круглые пятнышки – колонии бактерий, которые имеют доступ к кислороду. Тем самым мутанты получают преимущество, когда в толще кончается кислород. Но на выделение липкой слизи мутанты тратят энергию. Если же в колонии появляется мутант-обманщик, который живет в колонии, она его держит на поверхности, но сам он слизь не выделяет, – то уже он получает эволюционное преимущество. Мутанты-обманщики начинают активно размножаться – до тех пор пока колония не разрушится и все они не потонут. Так процесс и идет.
Колония еще не организм, потому что естественный отбор продолжает действовать на уровне отдельных бактерий. Но эксперименты можно и продолжить. Сначала надо понять, что должно произойти, чтобы решить проблему обманщиков. И так далее, по пути хотя бы к подобию настоящего многоклеточного организма.
А взять всем известный пример эволюции микробов – появление устойчивости к антибиотикам. Прослежено, каким образом она вырабатывается и передается. У микробов, как и в целом в природе, есть приспособления для ускоренной передачи полезных признаков. Представление, что все мутации случайны, что вся эволюция основана только на случайных мутациях, – сильно устарело.
С появлением новых молекулярных методов исследования стали ясны детали истории и биологии некоторых из них. Например, чем питались австралопитеки, зачем-то поменявшие кроны деревьев на трявянистые равнины? Раньше полагали, что австралопитеки были падальщиками, доедали то, что оставляли насытившиеся гиены и саблезубые тигры. По другим версиям, они унаследовали от своих обезьяньих предков растительноядность. Оказалось, что эти гипотезы можно проверить, изучив изотопный состав зубной эмали австралопитеков. Австралопитеки действительно добывали пищу в саваннах, но их диета была чрезвычайно разнообразной: от кореньев и плодов до насекомых и падали. Мясная доля в их рационе со временем возрастала: у самых древних австралопитеков больше изотопов, маркирующих растительные компоненты пищи, а у поздних таковых гораздо меньше. Вероятно, древние гоминиды постепенно учились отгонять хищников от недоеденной добычи. Жившие одновременно с австралопитеками парантропы, видимо, тоже были всеядными (всем другим лакомствам предпочитавшие термитов). Раньше предполагалось, что мощные зубы и челюсти были нужны парантропам для пережевывания жесткой волокнистой пищи – в основном кореньев и плодов. Новые данные об их рационе заставляют пересматривать эту гипотезу: сейчас неясно, зачем парантропам понадобились столь внушительные челюсти и зубы.