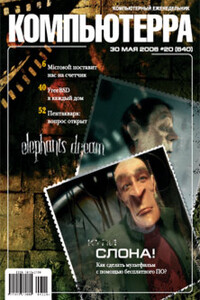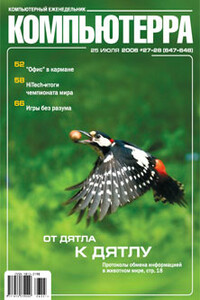Компьютерра, 2007 № 17 (685) | страница 26
Да и вообще – вряд ли какая иная область истории столь конфликтна, как история военная.
Это ведь в принципе история конфликта. Сначала – политического, с неизбежно сопровождающим его субъективизмом и ложью. Потом – конфликта военного, продолжения политики насильственными средствами.
И война ведь – взаимодействие больших систем. Все, кто хоть немного интересовался этой тематикой, помнят суждение, что кочевник легко осилит французского кавалериста, десяток французов будет драться с десятком арабов наравне, а сотня французов разгромит тысячу пустынников. Вот это и есть вышеупомянутые эмерджентность и синергия. В простейшем, разумеется, случае.
С полномасштабными, если так можно говорить, большими системами человечество пришло к Первой мировой. Войне, в которой политики, воспитанные в традиционных понятиях, оказались совершенно неспособны справиться с порожденными технологией проблемами. А что же говорить о Второй мировой, к финалу которой мир подошел с ракетами и расщеплением атома!
Можно заподозрить, что даже самое объективное историческое исследование, проводящееся по самой объективной традиционной методике, не даст описать происходящие процессы ЕСТЕСТВЕННЫМ языком в силу их масштабности.
А есть еще и вечные вопросы о роли в истории масс и личности. Политической элиты и социально-экономических процессов. Вождей и толпы.
Ответы на них даются, как правило, в зависимости от принадлежности к той или иной исторической или политологической школе.
И они, безусловно, субъективны.
Представляется, что несколько понизить долю субъективизма при исследовании конфликта больших систем могло бы применение в качестве инструмента большой системы. Которой мог бы быть достаточно большой цифровой архив.
Приведем самый простой пример из области, в которой сходится география и математика.
Какую длину имеет береговая линия на каком либо участке? Ведь если мы берем карты все более крупного и крупного масштаба, то черта, делящая море и сушу, становится все длиннее и длиннее. Свойства таких линий описывает и изучает фрактальная геометрия.
А такое стандартное понятие Второй мировой, как линия фронта? Какую длину она имела? Ведь при описании операций уверенно говорят о числе дивизий, количестве стволов, приходящихся на километр. Тут мы пока говорим об абстракциях типа ЛИНИИ фронта (и, видимо, тоже столкнемся со свойствами фракталов), которая, в какой-то момент распадется на конкретные окопы, конкретные огневые позиции, конкретные стрелковые ячейки. Но находящиеся на рельефе, обладающем фрактальными свойствами…