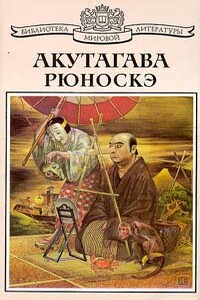Ход конем | страница 9
Он был старше невесты более чем вдвое и по возрасту вполне мог быть ее отцом – крупный, вульгарный, обходительный, смешливый человек, глядя на которого вы сразу замечали, что глаза его не смеются; вы очень быстро замечали, что глаза его не смеются, и потому лишь позже осознавали, что смех вообще никогда не распространялся намного дальше его зубов, – человек, обладавший тем, что дядя называл прикосновением Мидаса, и, по словам дяди, окруженный ореолом грабителя вдов и несовершеннолетних, подобно тому, как иные бывают окружены ореолом неудач и смерти.
По правде говоря, дядя утверждал, будто весь сюжет был перевернут с ног на голову. Он – его дядя – опять возвратился домой, теперь уже навсегда, а его сестра и мать, то есть мать и бабушка Чарльза (и все другие женщины, которых ему, наверное, невольно приходилось слушать), рассказали ему о свадьбе и о другой, призрачной помолвке, что уже само по себе должно было развязать дядин язык, если этого не сделало нарушение неприкосновенности его жилища; именно по той причине, что эта история не просто не имела отношения лично к нему, она имела столь ничтожное отношение к действительности вообще, что в ней не содержалось ничего, способного поставить его – дядю – в тупик или как-то ограничить.
А он, Чарльз, хотя уже почти два года не бывал у бабушки в гостиной, в своем воображении мог увидеть, как дядя, точно такой же, каким он был раньше и каким останется всегда, сидит возле бабушкиной скамеечки для ног и кресла-качалки, с кукурузной трубкой, снова набитой специальным табаком для белых, и пьет кофе (бабушка терпеть не могла чай и говорила, что его пьют только больные), сваренный для них его, Чарльзовой, матерью; мог увидеть дядино худощавое подвижное лицо, копну спутанных волос, которые уже начали седеть, когда он в 1919 году вернулся домой после трех лет службы санитаром во французской армии и провел ту весну и лето, не делая ничего, о чем бы хоть кто-нибудь знал, а после уехал обратно в Гейдельберг заканчивать диссертацию на звание доктора философии; мог услышать дядин голос, который беспрерывно говорит – не потому, что его хозяин любит разговаривать, а потому, что знает пока он говорит, никто не сможет сказать то, о чем он сам предпочитает умолчать.
Весь сюжет был перевернут задом наперед, сказал дядя, все роли и действующие лица пьесы смешались и перепутались: дочь играла и произносила то, чему следовало быть ролью и репликами отца; не отец, а дочь отстранила героя детского романа (неважно, сколь непрочной и эфемерной эта связь была, сказал дядя и – по словам его, Чарльзовой, матери – во второй раз спросил, знает ли кто-нибудь, как звали этого героя и куда он девался), чтобы уплатить по закладной на поместье; дочь сама выбрала человека вдвое старше себя, но обладающего прикосновением Мидаса, хотя роль отца должна была именно в том и заключаться, чтобы его найти и, если нужно, даже оказывать давление, чтобы старый роман (и его, Чарльзова, мать рассказала, как дядя опять повторил: неважно, сколь никчемный и эфемерный) был окончательно порван и забыт, а свадьба состоялась, хуже того: если бы даже супруга выбрал отец, сюжет бы все равно развивался наоборот, так как деньги (по словам его, Чарльзовой, матери, дядя и про это спросил дважды: был ли этот тип Гаррисс уже богат или просто казалось, что он разбогатеет, если получит в свое распоряжение достаточно времени и достаточно людей) уже принадлежали отцу, даже если их было не так много – ведь, как сказал дядя, человек, который читает по-латыни ради удовольствия, не захочет иметь больше, чем он уже имеет.