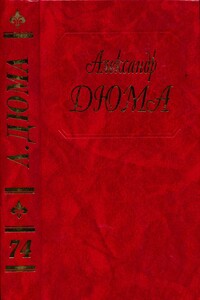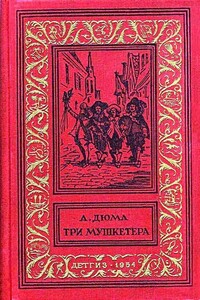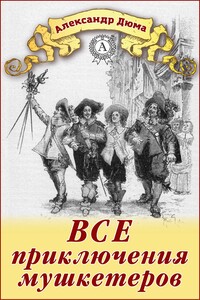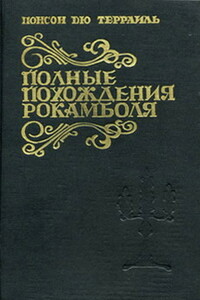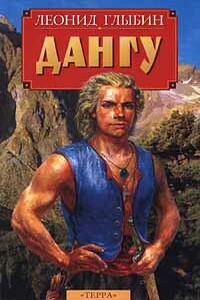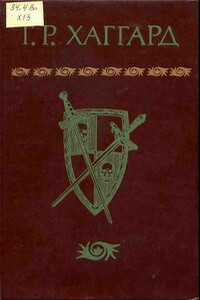Мадам Лафарг | страница 47
Марию возили в театр. Наступила великая эпоха романтизма, на сцене шли драмы, исполненные страстей, возможно, даже чрезмерных: «Лукреция Борджа», «Антони», «Марион Делорм», «Честер-тон»[72]. Познакомившись с ними, Мария начала лучше понимать, что за чувства ее тревожат, какие желания болезненно томят сердце. Слушала она «Дон Жуана» и «Роберта-Дьявола» в исполнении Нурри, м-м Даморо, м-м Дорюс[73]. «Пение казалось мне небесным, правда, небо было не христианским, а скорее магометанским – там избранники пророка услаждают себя шербетом, наслаждаются гармонией И воспламеняются черными глазами божественных гурий»[74].
Надо заметить, что Мария прекрасно описала себя, состояние юной души, и если бы мемуары появились прежде судебного процесса, а не после него, то не сомневаюсь: образованное общество отнеслось бы к ней с величайшим состраданием, но не потому, что поручилось бы целиком и полностью за непричастность Марии к отравлению мужа и краже бриллиантов, а потому, что могло бы понять то странное и таинственное влияние, какое оказывает физическое нездоровье женщины на ее душу, о чем так обстоятельно пишет Мишле в своей книге «Женщина»[75], обосновывая состояния, в которых женщина перестает владеть собой и не слышит доводов рассудка. Так вот что пишет сама Мария Каппель:
«Я повзрослела (в то время ей было шестнадцать, от силы семнадцать лет), но меня все еще считали ребенком и поощряли безудержное веселье и те неожиданные выходки, какие свидетельствовали о кипящем во мне преизбытке жизни . На лошади я искала, создавала, преодолевала тысячи опасностей. Во время наших прогулок не могла устоять перед соблазном перескочить через изгородь, перепрыгнуть через ручей из одного только возмущения перед возникшей преградой, вставшим на моем пути препятствием. Но если мне прощали полную свободу движений и перемещений в пространстве, то никакая самостоятельность в суждениях мне не позволялась. Мое самолюбие постоянно ранили, подавляя и принижая мою мысль. Однако все старания принудить меня не думать были тщетны. И если я согласилась на то, чтобы меня считали дурнушкой, то с предположением, что я дурочка, согласиться никак не могла. Раз от меня требовали молчания, я молчала – но, не высказываясь вслух, я писала, читала книги и приучила себя поэтизировать мельчайшие детали жизни. Со скрупулезным тщанием я оберегала себя от всего вульгарного и пошлого, хотя грешила тем, что стремилась только к прекрасному, мечтая, чтобы действительность стала более привлекательной, поощряла в себе любовь к красоте, а не любовь к добру, охотнее жертвовала собой, чем исполняла свои обязанности, отдавала предпочтение невозможному перед возможным»