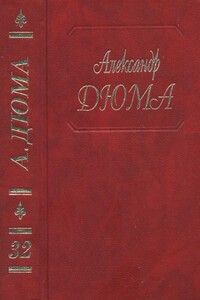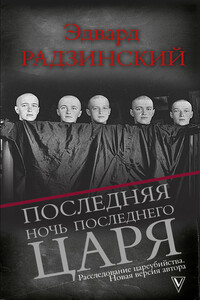Мария Гамильтон | страница 10
С тем старательно-жестоким интересом к факту, какой заставляя Ивана четвертого выбрасывать из окна кошек, а его самого рвать зубы, Пётр продолжал допрос:
— А давно ли состоишь в блуде?
— Третий год, государь, пребываю в любовном альянсе.
Пётр с удивлением поднял голову, подошёл к ней, огромными своими, как кузнечные щипцы, руками взял Марию за плечи, подвёл к окну, стал обглядывать её с таким сосредоточенным вниманием, с каким обглядывал говорящую куклу в Амстердаме.
Она отвечала фразой из книги, какую привёз он в Питербурх, чтоб завести тонкое обращение в народе, и о какой сам только что говорил. С отчаяния она начинала игру, предвидеть которую он не мог, особенно теперь, когда, перегорев хозяйским гневом, он становился следователем самого страшного преступления — непокорства царской воле, какая одна умела знать, в чём состоит счастье отдельного человека и народа.
С покорством неживой куклы влачась к окну, Гамильтон смотрела через плечо царя. Повлекшись за блестящим её, чуточку сумасшедшим взглядом, Пётр увидел, что глаза её остановились на Орлове, который, поднявшись с колен, вжался в выступ печи, откуда в скупом блеске расцвета чернел тёмно-зелёный его мундир. Эти глаза любили ничтожество, вжавшееся в печь, ничтожество, со страху готовое отказаться от всего на свете, даже от нечеловеческого блеска прекраснейших глаз, вырывающих душу как зуб.
Еле сдерживая бешенство, Пётр отошёл от окна. Впервые в жизни он не знал — что же ему собственно делать?
— Марьюшка! — позвал он в растерянности.
— Государь, — воскликнула Мария, подаваясь на зовущий его голос. Многих обманывал голос Петра, — страдающий, снисходящий к человеку, каким вдруг в порыве самого крутого гнева он умел спросить. Многих задушевный голос-этот, вернее, чем дыба и кнут, заставлял выкладывать сердце нараспашку.
— Марьюшка, — продолжал Пётр тем же скорбным, желающим голосом, в изнеможении прикрывая глаза, — значит, и плод травила?..
— Да, государь.
— Дважды, Марьюшка?
— Дважды, государь…
— Помнишь, в летнем саду у фонтана нашли завернутого в салфетку младенца мужеского пола, и девки выразумели твой грех?.. Твой был грех, Марьюшка?
— Мой, государь.
— Так, Марьюшка, так! Правду, единую правду говори мне, — продолжал Пётр, — убила ты, Марьюшка, трёх младенцев, и больно мне, Марьюшка, что, может быть, одного младенчика… императора всероссийского завернула в салфетку!
И вдруг, раскрывая глаза, которые, как волдыри гноем, были налиты готовым лопнуть гневом, ладонью — как топором по плахе — треснул по столу. Его лицо свело в судорожную гримасу, левый ус протыкал щёку, и глаза, огромные, во весь зрачок, остановились на Марии в упор, как фонари на ночном тате.