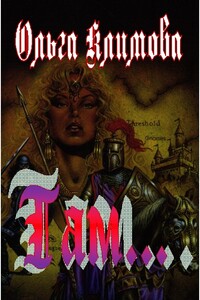Roma IV | страница 16
Дурак. Дурак. Дурак.
– Встань уже и переляг на мягкое. А голову повыше. На подушку. Вот так. Лучше?
– Пожалуйста, простите... – натужно продолжил он, – мне привиделся ужасный сон... Про сына... Я себя забыл... Простите... Я...
– Какой был сон?
И он покорно пересказал его, опуская мерзкие подробности. Аврелия неожиданно засмеялась.
– Я и верхом-то без стремян не умею.
– Без стре...
– А, ты не знаешь. Это варварская выдумка.
И вдруг снова скривила рот.
– Скажи, ты ведь веришь, что твой сын жив, здоров, и всех-то бед, что сидит под стражей и мается неизвестностью?
– Верю... – обессилено выдохнул он.
– Правильно, верь. Кроме как мне, тебе верить некому. И не во что. Ведь ты Богов поминаешь по привычке, так?
«Я взяла заложников».
Из узкого окна Немой Башни она глядела, как мальчики и юноши – от четырнадцати до двадцати лет – ходят кругами по тюремному садику, кутаясь в шерстяные, с бахромой, хламиды, избегая подымать друг на друга глаза. В принципе, не так-то трудно выяснить, кто из них – убийцы. На то и Немая Башня, немотой своей обязанная зодчему (последнему в предыдущей династии), знавшему тайну кладки, что пожирает звук. Разумеется, стены набиты подневольными каменщиками, как пирог – изюмом, но сам зодчий успел принять яд до того, как за ним пришли.
Тоже мне тайна – толстенные, в шесть локтей, стены, переложены хлопковыми матами. Ну и каменщики убиенные... Сущий пирог. (Любознательный Гай велел однажды нынешнему зодчему разобрать кладку в цокольном этаже).
Гай.
Она побоялась приподнять погребальные покровы и посмотреть на его раны. Ей не надо было удостоверяться, влагая персты. Все было в ледяном лике Корнелия – и смерть, и радость, и покой – и эту безротую смерть мужеска пола она пригрела на своем вдовьем ложе – но ни радости, ни покоя. Хотя бы потому, что у нее ни одного «своего» в патрицианских палаццо – а надо бы иметь, раз уж метишь в тираны.
У нее даже яда нет.
А то, чем она хвасталась Отусу, хоть и лучше яда, для самоубийства употреблять не хотелось бы.
Она все время прятала это под одеждами – даже как будто от самой себя: вид этой вещи столь не соответствовал назначению, что она казалась игрушкой. И только вес однозначно выдавал принадлежность к роду оружия.
На глаза попался Саркис. Она присмотрелась – придирчиво, словно он был ей любимым пасынком. Он так же, как и прочие, ходил особняком, так же через каждые пять-шесть шагов натуго обтягивал плечи кусачей хламидой – казалось ли ей, или на самом деле он похудел, и облако тонких волос слабыми вьющимися прядями опало на плечи? За кого он больше боится? За себя? За отца? Ведь у него нет друзей среди прочих, повязанных щенячьим бунтарством и императорской кровью. А они кого из себя строят? Стоиков? Киников? Первомучеников?