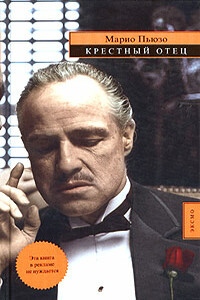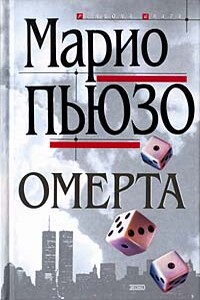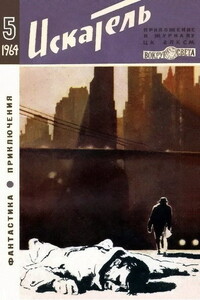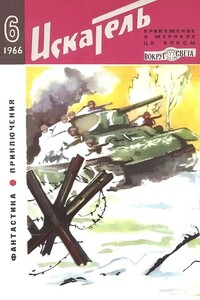Пусть умирают дураки | страница 70
У каждого есть оправдание, если он оступится па пути добродетели. На самом деле, вы оступаетесь, когда внутренне готовы к этому.
Однажды утром я пришел на работу и увидел, что холл перед моей конторой заполнен молодыми людьми, записывавшимися на шестимесячную армейскую программу. Весь дом был полон. На всех восьми этажах записывали во все части. А это было одно из тех старых сооружений, которые предназначались для размещения целых батальонов.
Моим первым клиентом был старичок, который привел юношу приблизительно двадцати одного года. Он был в конце моего списка.
— Извините, мы вас не будем вызывать по крайней мере шесть месяцев, — сказал я.
У старикашки были ужасающе голубые глаза, источавшие власть и уверенность.
— Лучше посоветуйтесь со своим начальником, — сказал он.
В этот момент я увидел, что мой босс, майор регулярной армии, энергично сигналит мне через стеклянную перегородку. Я встал и вышел из конторы. Майор с лентами по всей груди был в бою в Корейской и Второй Мировой войнах. Но он потел и нервничал.
— Послушайте, — сказал я, — этот старикан сказал мне, что я должен переговорить с вами. Он хочет, чтобы его парнишка был первым в списке. Я сказал ему, что не могу этого сделать.
Майор сердито сказал:
— Дайте ему все, что он хочет. Этот старикан — конгрессмен.
— А как же список? — сказал я.
— Плевать на список, — сказал майор.
Я возвратился за свой стол, где сидели конгрессмен и его молодой протеже, и начал заполнять формы. Я услышал имя мальчишки. Когда-нибудь он будет стоить сто миллионов долларов. Его семья — одна из достигших наибольшего успеха в американской истории. А теперь он был в моей конторе и поступал на шестимесячную программу, чтобы избежать полной двухлетней службы.
Конгрессмен вел себя безукоризненно. Он не важничал передо мной, не намекал на то, что его власть заставила меня переступить правила. Он говорил тихо, дружески, избрав самый правильный тон. Его обращение со мной заслуживало восхищения. Он старался дать мне почувствовать, что я делаю ему одолжение, и упомянул, что если он что-нибудь может сделать для меня, я должен позвонить ему в офис. Мальчишка держал язык за зубами и только отвечал на мои вопросы, когда я печатал ему форму.
Но я несколько нервничал. Не понимаю, почему. У меня не было моральных возражений против употребления власти и не было ощущения несправедливости. Получалось так, что они как будто наехали на меня, и я ничего не мог с этим поделать. Или, может быть, от мысли, что мальчишка так круто богат, что почему бы ему не послужить два года в армии для страны, которая столько хорошего принесла его семье?