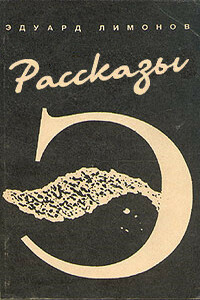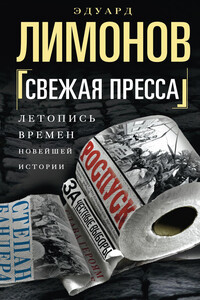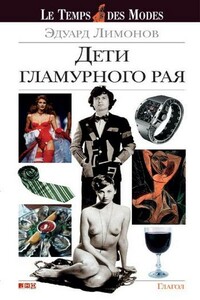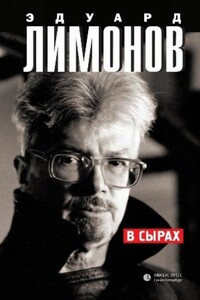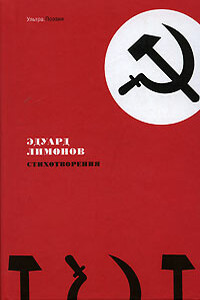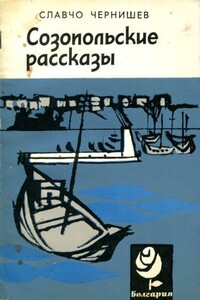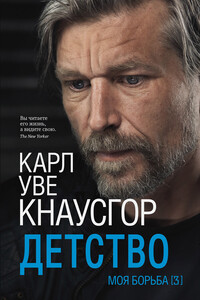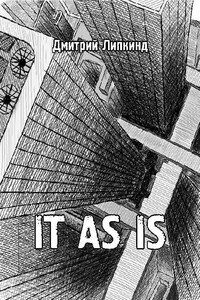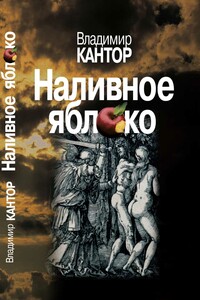Девочка-зверь | страница 46
Трупов было множество, но нас хватило лишь на десяток. Когда мы обрабатывали десятый, к болотцу вышел старик с овчаркой, и она, зарычав, подбежала к самым сапогам Андрюшки. Мои сапоги были резиновые, Андрюшкины — кирзовые, солдатские. Мои сапоги, впрочем, тоже принадлежали ему. Толстый нос Андрюшки сморщился, я знал, что он боится собак, и рука его нырнула в пальто, там, я знал, у него нож. «Держите своего кабыздоха, — сказал Андрюшка, — а то у него будут неприятности…» Старик смерил силы и предпочел отозвать собаку. Очень возможно, что старик не взвешивал, кто сильнее, а просто мир, нами воображаемый, был куда интереснее, яростнее реального мира и опасности нам только чудились, так мы хотели, чтоб они были. Завернув лапки в Андрюшкин платок, мы бодрым шагом отправились домой.
Вареные и залитые майонезом лягушачьи лапки оказались твердыми. Может быть, мы их недолго варили. Ножи соскальзывали с лапок, может быть, следовало снять шкурку до того, как готовить лапки. Я проглотил пару лапок и стал есть селедку с картошкой. Андрюшка же, может быть выпендриваясь (он любил всячески выпендриваться и, например, снимался во фраке и котелке у мольберта), продолжал есть лапки, не торопясь, обрезая и обсасывая и намазывая майонезом. Через пару часов его стало тошнить, и как он ни старался удержаться (я думаю, ему не хотелось признаваться передо мной в своей кулинарной некомпетентности), ему пришлось бежать в туалет. Бледно-зеленый, он вышел оттуда через десяток минут, начисто опорожнив желудок. «А тебе, Лимонов, хоть бы хуй, — с завистью констатировал он. — У тебя луженый желудок. Гвозди переварит». Я разумно заметил, что я съел всего две лапки, тогда как он съел десять, пятнадцать или даже двадцать лапок, я не знаю точно, он знает лучше. Они все считали, мои друзья, что у меня луженый желудок, после того, как я съел завалявшийся у Стесина в холодильнике совершенно позеленевший кусок колбасы. И со мной ничего не случилось. Они качали головами и удивлялись. Стесин, гогоча, закричал, что он лично тотчас бы уже отправился на кладбище после подобного завтрака. Мы все (за исключением Стесина; в ту эпоху у него была семья: жена и теща, и он питался нормально) были постоянно голодными. Андрюшкина мать, не из жадности, но из принципа, не высылала ему никаких денег, и жили мы на бог знает какие скудные деньги. Иногда я шил брюки. Я шил их, впрочем, в ту эпоху ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Всякий достаток казался мне оскорбительным. «Человек искусства не должен…» По нашим понятиям, согласно нашей эстетике, человек искусства не должен был иметь денег, не должен был… иметь имущества… должен был жить (согласно теоретику бедной жизни Мишке Гробману) на рубль в день. Жить больше, чем на рубль в день, мы считали, — преступление! Презренные окружающие простые люди: инженеры, техники, не гении, но потребители искусства, производимого гениями, должны были кормить гениев или поить их (в крайнем случае)… Эта наша философия помещала «человека искусства» в положение, сходное с положением буддийского монаха в традиционном индийском обществе (вообще монаха, дервиша, мудреца) — народ должен был, обязан был класть в чашу, с которой монах просил подаяния, — еду. А монах в обмен делился с простым миром людей своей мудростью. В нашем случае мы готовы были делиться нашим искусством. Так как огромная машина государственного искусства лязгала рядом, недоступная, бронированная и зачехленная, и несколько входов в нее через жерла союзов строго охранялись и контролировались, мы построили свой аппарат — причудливое сооружение из случайных материалов: неофициальное искусство. Мы — это Стесин, Андрюшка, я, художник Игорь Ворошилов, его учитель Зверев, Володька Яковлев, Мишка Гробман и еще другие — всего несколько тысяч сумасшедших людей того времени — второй половины шестидесятых и начала семидесятых…