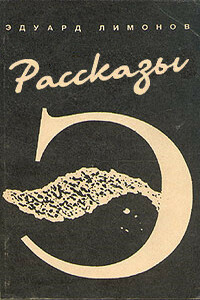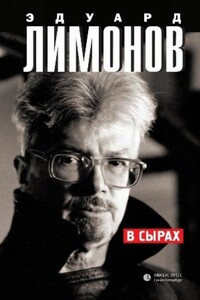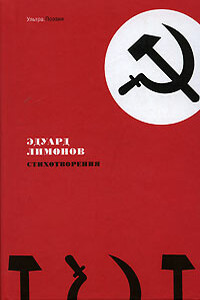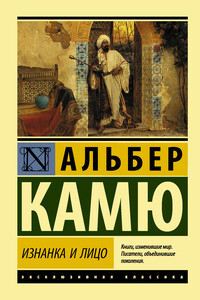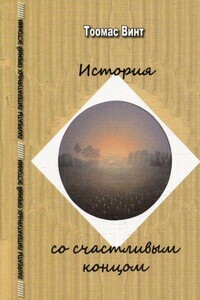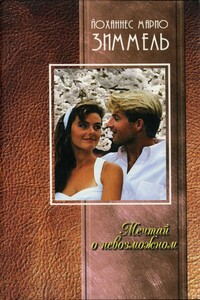Девочка-зверь | страница 44
Отдохнув у болотца, мы двигались дальше в лес, до крупной поляны, где, собственно, и происходили эти самые «этюды». Лес этот, пусть и пригородный, пусть и редкий северный лес со светлыми березами, темноствольными чахлыми дубами и массами елей здесь и там — эклектический, все же был самым что ни на есть серьезным лесом. На опушках и полянах его можно было так же красиво или ужасно умереть в войну, как и в самых подлинных кинематографических лесах. Почему речь зашла о войне? А черт его знает. Помню, что именно о войне, о солдатах, о пулеметных очередях и винтовочных выстрелах думал я, лежа на сухом пригорке, на спальном мешке, тетрадь и карандаш рядом. Глядя в светлое пастельное небо. И почему-то, теряясь в пастельном небе и возвращаясь из него, звучала во мне мелодия: «С берез неслышен, невесом… слетает желтый лист…» Осенняя песня в весеннем лесу. Военная песня в мирном московском лесу. Вдруг дуло холодным ветром, находила мрачная туча на солнце, начинала кричать кукушка…. Андрюшка переставал топтаться сапогами в грязи, откладывал кисть и садился на спальный мешок. «Пожрем, Лимонов?»
В те годы вышло в советских издательствах множество книг об импрессионистах и даже письма Ван Гога к брату Тео, снабженные неплохими иллюстрациями. Получалось, что мы живем с Андрюшкой как импрессионисты, как Ван Гог. Я жил бедной, но возбудительной жизнью искусства уже с 1964 года. Три года в Харькове и уже второй год в Москве. Как и импрессионистам, нам с Андрюшкой нравились чахлые городские окраины, блеклая московская весна, а не зима или лето. У нас выработалась даже своеобразная эстетика зла и бедности. Деревья, по нашим представлениям, должны были быть не буйными, но полубольными, почки — полураспустившимися, в траве должны были попадаться ржавые консервные банки, а в талой воде, в невысохших лужах на нашей поляне чтоб были осколки бутылок. Краснорукие, жутковатые Джек-потрошитель и его друзья пусть и были неприятны нам эмоционально, вполне вписывались в нашу с Андрюшкой эстетику. Небо должно было быть скудным, слегка грязным, кусты — как клубки колючей проволоки с несколькими едко-зелеными листьями, из цветов мы предпочитали желтые одуванчики, уже ромашка казалась нам неприлично богатым цветком. Из запахов мы предпочитали запах хлорки, а Андрюшка еще любил запах уксуса. Влияние этой эстетики легко обнаружить в моем «Втором сборнике» стихотворений: искусственно-условная, несколько механическая природа. Не знаю, что случилось с Андрюшкиными этюдами того времени, он писал густым маслом в ту пору, тяжелые червяковые, украденные у Ван Гога мазки-запятые; помню их как капустную мякоть, эти его полотна. Если он потерял их в пути по жизни, то жаль, поскольку пусть и ученические, они представляли нас, нашу поляну, нашу эстетику. Наше умонастроение.