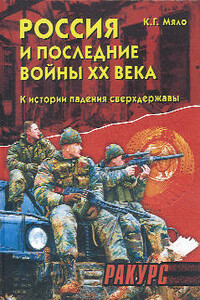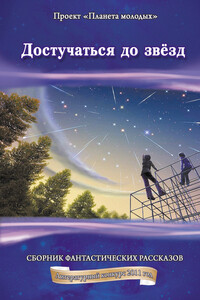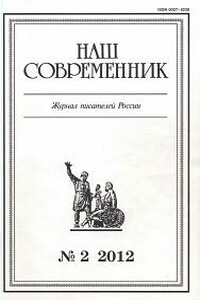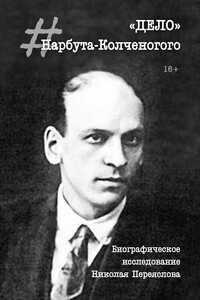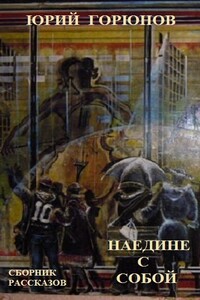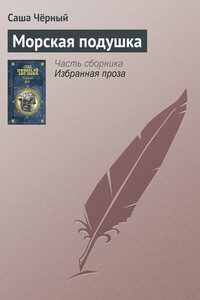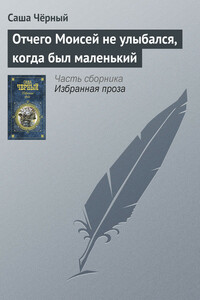Наш Современник, 2006 № 05 | страница 56
Так что признаем, не слушая лукавых проповедников западных ценностей, что именно наши ценности дали нам возможность и элементарно выжить, и остаться самими собой. Признаем, что за нашим языком стоит не просто набор слов и фраз с грамматическими конструкциями, а Россия. И без нее мы — нежизнеспособны. Отрекшись от нее по соображениям географическим, политическим, сиюминутно-экономическим, мы потеряем главный нерв нашей жизни и ничего не сможем ответить на вопрос, который вполне смогут задать нам наши дети: “А зачем нам русский язык, ведь мы в Латвии живем, надо учить латышский и английский”…
“Душа моя, все мысли мои в России”, — писал Тургенев из Франции. Он не был эмигрантом, он в любой момент мог вернуться в Спасское-Лутовиново, в Москву или Петербург. Мы — не можем, по той простой причине, что нам некуда возвращаться. Но душе не запретишь бывать там, где ей угодно. Только не надо ставить перед собой искусственные барьеры, порожденные мифологемами еэсовского агитпропа…
Об опасности национального развоплощения у нас мало думают и говорят, чисто риторически борясь “за русские школы”. Зачем нам русские школы, язык и пресловутая культура, если не для постижения собственной души и не для постижения ее матери — России? Ну как же, возразят мне. Великая русская культура…
А что такое русская культура? Вряд ли мы дождемся внятного ответа на этот вопрос, если отбросим ее фундамент, Россию. Если отбросим церковный православный опыт. Хотя бы это, исполняемое на Рождество, когда празднуется и “избавление нашего Отечества от галлов и с ними двунадесяти языков”: “С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог”…
Если отбросим огромный свод национально-патриотической литературы. И Пушкина, и Гоголя, и Тютчева, и Хомякова, и Некрасова, и Достоевского, и Толстого, и Розанова, и Бунина, и Георгия Иванова, и Шмелева, и Ивана Ильина, и Данилевского, и Леонтьева, и Солоневича, и митрополита Иоанна (Снычева), и Панарина, и Нарочницкую, и сонмы русских мыслителей, художников, писателей, “вся душа и мысли” которых были в России. Даже — Владимира Соловьева, Бердяева и Булгакова. Всех тех, кто бился над постижением тайны русской истории, русской духовности, исторического пути России.
Что же нам останется из этого свода, отбрось мы эту тему, да и не тему даже, а главное содержание литературной и общественной мысли? “Любовная лирика Тютчева”? “Любовная лирика Блока”? Постмодернизм? Опусы Пелевина и вот еще, как его… Дмитрия Пригова?