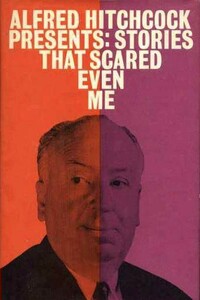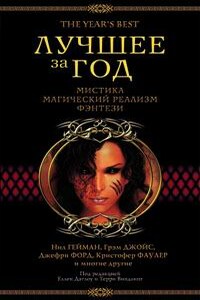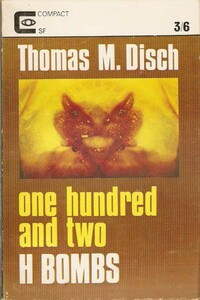Концлагерь | страница 81
Хочешь не хочешь — а труд нынче во главе угла коллективный. В следующем поколении, настаивает Скиллимэн, компьютеризация, настолько продвинется, что опять войдет в моду гений-одиночка — если, конечно, сумеет получить грант, достаточный для вербовки батальонов самопрограммирующихся машин, без которых в этом деле никак.
Людей Скиллимэн не любит, но поскольку они ему необходимы, научился их использовать — так же, как когда-то я, скрепя сердце, выучился водить машину. Иногда у меня возникает ощущение, что «интерперсональному подходу» он обучался по учебнику психологии; что когда он принимается истерически отчитывать какого-нибудь подчиненного, то говорит себе: «Теперь слегка закрепим негативный рефлекс». Аналогично, когда он хвалит, то думает о прянике.
Самый лучший пряник в его распоряжении — это просто возможность с ним побеседовать. Как зрелище опустошения в чистом виде он бесподобен.
Но главная сила его заключается в безошибочной проницательности на предмет чужих слабостей. Он потому так здорово управляется со своей дюжиной марионеток, что тщательно отобрал людей, которые сами хотят, чтоб ими манипулировали. Любой диктатор в курсе, что таких всегда пруд Пруди.
Никогда бы не подумал, что так сильно повлияю на Ха-Ха, — однако факт. Последняя его записка читается, как отказ из альманаха-ежеквартальника: «Ваше изображение Скиллимэна недостаточно конкретно. Как он выглядит? Как говорит? Что он за человек?»
Не будь я в курсе дела — честное слово, заподозрил бы, что Хааст дорвался до паллидина.
Как он выглядит?
Природой ему была уготована стройность — но он, несмотря на себя самое, растолстел. Чуть побольше конечностей — и его можно было бы сравнить с пауком: вздутое брюхо и тощие ручки-ножки. Он лысеет и тщетно (эффект нулевой) зачесывает поперек блестящего черепа длинные редкие пряди. Толстые стекла очков увеличивают голубые, в мелких пятнышках глаза. Мочки ушей крошечные, и я частенько совершенно неприлично на них пялюсь — в том числе потому, что знаю, что это его раздражает. Общее впечатление какой-то нетелесности — словно плоть можно беспрепятственно стесать слоями, как масло, а металлическому внутреннему Скиллимэну все как с гуся вода. Запах от него совершенно омерзительный (то же самое масло, только прогорклое). Кашель заядлого курильщика. Под подбородком — неизменный (и единственный) прыщик, который он зовет «родинкой».
Как он говорит?
Немного в нос: характерная техасщина, модифицированная калифорнийщиной. Когда говорит со мной, гнусавит еще больше. По-моему, для него я олицетворяю ново-английский истэблишмент — зловредных либералов, сговорившихся отказать ему в стипендии, когда он подавал в Гарвард и Суортмор.