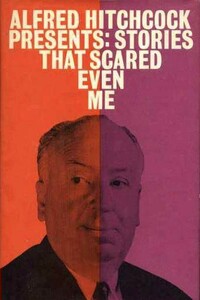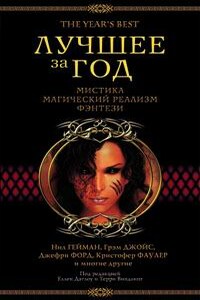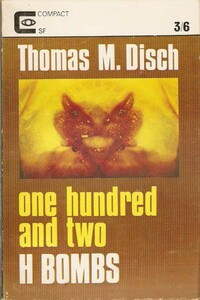Концлагерь | страница 39
И — О! О эти твои бесценные лизоблюдские стишки, это пресмыкательство на брюхе перед притворой Богом-батюшкой. Вот дерьмо-то, а? Год за годом, в час по чайной ложке, ну прямо как та пташка (у Блаженного Августина, точно?), которая пыталась сдвинуть гору — по камушку, раз в тысячелетие, и когда перенесла последнюю песчинку, от вечности ни на миг не убавилось. Но ты, пердунок, на горы и не покушался. Холмы, понимаете ли, Швейцарии — а какое будет продолжение? Говнище Ватикана?
Чу — доносится, словно из безмерной дали, трои слабый протест: глупец говорит в сердце своем, что Бога нет.
А мудрец говорит это вслух.
Позже, гораздо позже.
Не надо, по-моему, объяснять, что вчера и сегодня я чувствовал себя неважно. По-моему, как-то я в дневнике уже отмечал, что думал, будто доктор Мьери избавил меня от мигрени. Еще я думал, будто б он избавил меня от скерцо наподобие вышеизложенного.
Думать.
Думаю.
Ду-ду-ду…
Почва под ногами все еще зыбковата, и хоть я снова я, как-то не кажется оно перманентно обретенным, это самообладание. Бессонница мучает, его излишества меня утомили, и голова болит; уже поздно.
Бродил по коридорам, по коридорам, по коридорам. Размышлял над услышанным от Баск, пока не был вынужден уделить внимание вопросам посерьезнее, поднятым Луи II. Ему я не отвечаю, этот чертяка теолог не хуже меня (тавтология).
Значит, молчание. Но разве молчание не равносильно, почти, признанию поражения? Один и не причащенный, я лишен благодати: дело только в этом.
О Господь, упрости эти уравнения!
— Monturi te salutamus,[17] - произнес Мордехай, отворив дверь, в ответ на что я, весь из себя тусклый, не нашел ничего лучше, чем воздеть большой палец.
— Quid nunc? — поинтересовался он, затворив дверь; ответ на этот вопрос лежал еще дальше вне моей компетенции. Собственно, в том вся цель моего визита и заключалась, чтобы избегнуть необходимости решать проблему «Что теперь?».