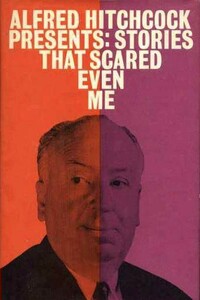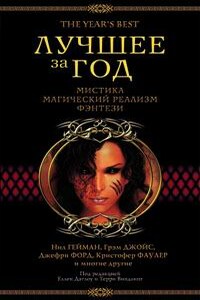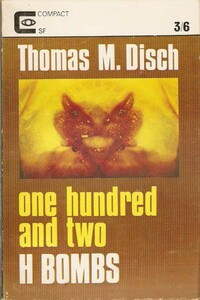Концлагерь | страница 114
— Сам… не могу. Слишком мы… часто… и… а вы? Сможете? Если дать вам пистолет?
— Дайте! Сами увидите.
— Сержант, дайте доктору Скиллимэну ваш пистолет.
В повисшей долгой паузе я встал и развернулся — чтобы ощутить на лице полную силу ветра.
— Ну, Саккетти? Ну что? Вам не хотелось бы сказать что-нибудь?
Оставить пару строчек нетленного наследия? Подставить другую щеку? Судя по специфически напруженному голосу, в седле своей воли Скиллимэн держался не гак чтоб очень крепко.
— Только… Спасибо вам Тут так замечательно, наверху. Так невыразимо замечательно. Ветер. И… скажите, пожалуйста… Сейчас ночь?.. Или день?
В ответ молчание, потом выстрел. Еще один. В общей сложности семь. После каждого счастье мое расширялось диаметрально, словно бы скачками.
„Жив! — подумал я. — Живой!“
После седьмого выстрела тишина была самая долгая. Потом Хааст сказал:
— Сейчас ночь.
— Скиллимэн?..
— В белый свет, как в копеечку. По звездам.
— Буквально?
— Да. Метился, кажется, по преимуществу в Пояс Ориона.
— Ничего не понимаю.
— По команде „карты на стол“ какой-то там Луи Саккетти показался мелковатой мишенью для срывания злобы столь всеобъемлющей.
— А последняя пуля? Он покончил?..
— Может, и хотел, но не осмелился. Последний выстрел был за мной.
— Все равно не понимаю.
Баритоном, сиплым от простуды, Хааст прогудел мелодию „Лестницы в рай“.
— Хааст, — произнеся. — Вы… ты?..
— Мордехай Вашингтон, — сказал он и накинул на плечи мне оба сброшенных одеяла. Я задумался.
— Вернемся-ка вниз, нас ждут.
Фрагменты развязки.
Хааст/Мордехай сопроводил меня в комнату, соседнюю с театром, куда пока я выставлял свой Музей Фактов — перенесли и сложили оставшееся от его магнум опуса оборудование. Охранники были заняты не столько мной, сколько Трудягой; Труд, громко сетовал на грубое обращение и упирался.
Оборудование стояло точно так же, как в вечер большого фиаско (как я тогда думал). Меня и Тр. усадили, соответственно, на места Мордехая и Хааста. В голове у меня, слава Богу, был полный туман, и я безропотно позволил пристегнуть себя и обмотать проводами.
На самом-то деле где-нибудь в глубине души я уже догадывался, к чему идет дело, — так что за случившееся мне винить некого, кроме себя самого. Помнится, когда щелкнул рубильник, я на какую-то долю секунды отключился. Открыв глаза, я увидел…
Уже чудо — увидел!
…собственное тело, старый больной полумертвый мешок с костями. Мешок шевельнулся; открыл глаза — и не увидел ничего; руки мешка ощупали его лицо; лицо исказилось в крике.