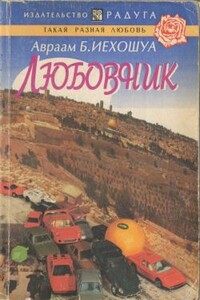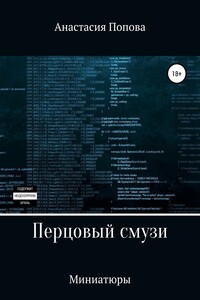Соль на нашей коже | страница 22
– Kenavo… A Wechall,[8] – добавил он еще тише.
И отстранился от меня. – В Париж… я уж постараюсь приехать.
Он говорил с бретонским акцентом – мне всегда нравились эти отрывистые слова. Потом он поднял руку, как бы в знак клятвы, и стоял так, пока я не закрыла за собой низкую дверь.
3
Париж
Удивительно, до чего большие события в жизни – роды, болезни, смерть – делают нашу речь банальной: на язык просятся готовые обороты, рожденные народной мудростью, которые лучше всех научных терминов передают реакции организма.
Гавейн сдержал обещание. Он приехал на несколько дней ко мне в Париж, и я не могу ни есть, ни спать; у меня в буквальном смысле ком в горле и ватные ноги, подвело живот и сердце выскакивает из груди, как будто сексуальная функция подавила все остальные. Да еще – о, я познаю на себе всю точность этого грубоватого выражения – припекло в дыре. Я обречена три дня ходить с пылающей головней внутри, носить на себе клеймо Гавейна, припечатанное раскаленным железом между ног.
– А ты знаешь, что меня припекло… там, я знаю где? – говорю я Гавейну, не решаясь сказать «в дыре» вот так, сразу. Мы ведь еще не так хорошо друг друга знаем.
– Тебя припекло, я знаю где, – отвечает он с хитрецой, недоумевая, радоваться ли – все-таки я воздаю должное его мужским достоинствам – или удивляться – он не ожидал такой откровенности от столь хорошо воспитанной особы.
Мне нравится его шокировать – это так легко! Он живет, согласно своим сформировавшимся убеждениям, в мире, где вещи и люди разложены по полочкам раз и навсегда.
Я мажу смягчающим кремом пострадавший участок и удивляюсь: как это авторы эротических романов никогда не упоминают о подобных неприятных последствиях… любовных утех. Влагалищам их героинь как будто сносу нет, они способны выдержать вторжение инородных тел когда угодно и сколь угодно долго. Мое же – просто живое мясо. Я рассматриваю очаг поражения в увеличительное зеркальце и не узнаю свою достойнейшую вульву, обычно такую скромную, такую приличную. Вижу вместо нее какой-то переспелый абрикос, безобразно яркий, раздутый, кожица лопается под напором мякоти – одним словом, в высшей степени непристойное зрелище. И все это горит. И кажется, я не способна впустить в себя даже вермишелинку.
Тем не менее уже сейчас, отложив зеркальце, я позволю – нет, что я говорю, потребую, чтобы Гавейн снова заклеймил меня раскаленным железом, чтобы снова оказалась во мне эта его громадина, которая, вопреки всем законам физики, преодолев болезненный участок, располагается как у себя дома, хотя, по правде сказать, дом все же чуточку тесноват.