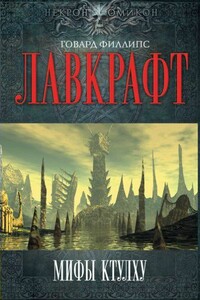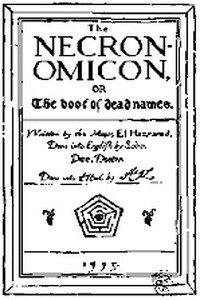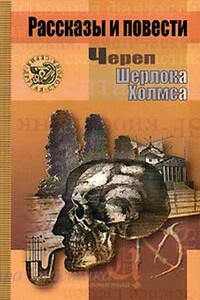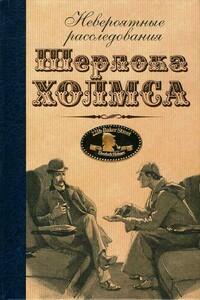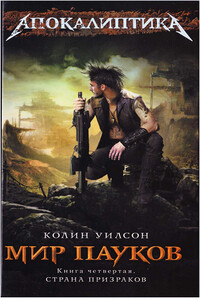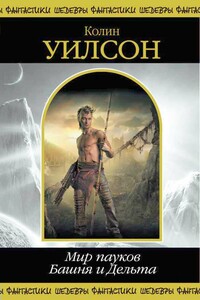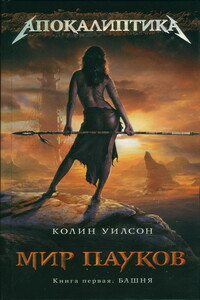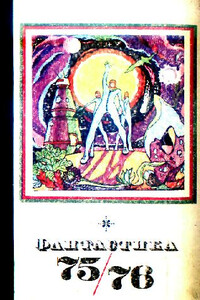Философский камень | страница 16
Для меня смерть Лайелла была чем-то безумно противоестественным. Объяснить такое непросто. «В молодости никто по-настоящему не верит в свою смерть», — сказано у Хэзлитта[50]; безусловно, это относилось и ко мне, в мои двадцать пять. Лайелл же стал мне в некотором смысле так близок (точнее, он был близок мне всегда, с первой нашей встречи), что невольно мое неверие в смерть распространилось как-то и на него. Для объяснения проще будет сказать, что он сделался моим двойником. С самого начала между нами утвердилась некая странная внутренняя связь — эдакая глубокая и полная симпатия, которую мне иногда доводилось видеть у исключительно счастливых супружеских пар. Это было сокровеннее личного, это исходило и из нашей обоюдной любви к науке и философии. И вот, стоя на снегу, глядя, как вносят в каменный склеп гроб, я вдруг испытал иллюзорное чувство, что это хоронят заживо меня. В самом достоверном смысле, в гробу находилась частица меня. Вот почему я не ощутил сочувствия, когда леди Лайелл, не выдержав, расплакалась и припала к моей руке. Горе ее было искренним, но неглубоким; она так однажды плакала, когда пришлось пристрелить ее любимого скакуна, сломавшего ногу.
На следующий день я переехал в коттедж в Эссексе, где мы с Лайеллом вместе работали над «Принципами микробиологии». Его жена через год снова вышла замуж, и мы больше никогда не встречались. Когда обнаружилось, как щедро Лайелл оделил меня в своем завещании, я невольно ожидал, что она возьмется его оспаривать. Но надо отдать женщине должное: каверзность или мелочность ей не были свойственны.
Перечитывая написанное, я сознаю, что не сумел объяснить, почему смерть Лайелла подействовала на меня так сокрушающе. Чтобы объяснить это, мне пришлось бы подробнейшим образом описать свои двенадцать лет жизни в Снейнтоне, из которых последние семь я был Лайеллу и ассистентом, и секретарем, для чего, в свою очередь, потребовалась бы книга, не уступающая объемом «Жизни» Бэйнтона