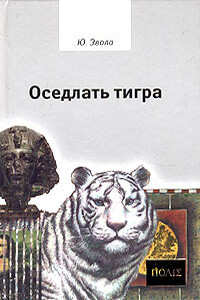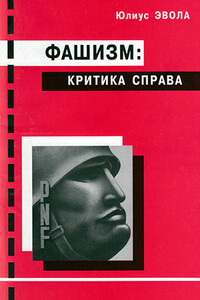Мистерия Грааля | страница 3
Если понимать под «титаном» того, кто не хочет признавать ограниченности человеческого состояния и стремится похитить божественный огонь, то «героя» от «титана» отличает только один штрих. Уже Пиндар предостерегал от желания "стать как боги", и в иудейской мифологии проклятие Адама представляет собой аналогичное предупреждение, указующее также и на рискованность такой попытки. Тип титана — или, в иной перспективе, тип воина — остается, в сущности, первоматерией героя. Однако для позитивного решения, то есть для олимпийской трансформации и реинтеграции в изначальное состояние, необходимо выполнить двойное условие.
Прежде всего: испытание и подтверждение мужеской квалификации — откуда целая цепь похождений, приключений, схваток, — но в такой форме, чтобы это не стало самоцелью, чтобы не произошло закупоривания «Я», чтобы не была парализована способность открыть себя для трансцендентной силы, только благодаря которой огонь и может превратиться в свет и освободиться. С другой стороны, такое освобождение не должно означать конца внутреннего напряжения, так как дальнейшее испытание заключается в адекватном утверждении мужеского качества на сверхъестественном уровне, что и должно привести к олимпийской трансформации, к обретению достоинства, которое всегда в инициатических традициях называется «королевским». Именно здесь состоит радикальное отличие героического опыта от мистических экстазов и пантеистических экзальтаций. И здесь следует вспомнить в первую очередь о символизме "женщины".