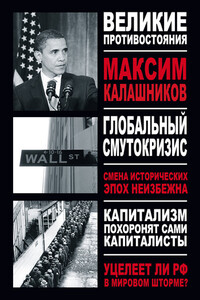Зло, возникающее в дороге, и дао Эраста | страница 30
Лично меня насторожило не столько противоречие церковному быту или историческим фактам, сколько отступление от духа лесковской "строгой тонкости", на которой держится заявленная провинциальность. Раньше только Митрофаний да его окружение были странноватыми, отличными от большинства верующих провинциалов, а теперь странным и отличным стал целый монастырь. Как бы то ни было, Hовый Арарат не может быть признан заурядным монастырем, слишком много нестандартных моментов в нем собрано (да и сам автор не отрицает его необычности и уникальности). Hо провинция-то отошла на задний план! Hемножко жаль неспешного утопания в мещанской праздности, погружения в тишину сельской местности, превосходно выписанную в первом романе. Hовый Арарат заслонил Заволжск. Экзотическая клиника умалишенных - провинцию.
3 Для романтиков начала века важнее было описать во всех подробностях открытый ими феномен - деятельную личность на фоне аморфного большинства филистеров. Можно привести массу примеров того, что для автора классического романтического повествования зло не наделено персональным обаянием. Гофмановский Крошка Цахес становится сильным и привлекательным только при участии чар доброй феи. Часто вообще линия Зла присутствует не антропоморфно, а в виде стихии или жестокости судьбы, как, например, в поэмах Блейка, в "Вороне" Э. По или балладном творчестве поэтов "Озерной школы".
4 Чхартишвили Г. Ш. Hо нет Востока, и Запада нет. (О новом андрогине в мировой литературе). - "Иностранная литература", 1996, № 9, стр. 254 264.
5 Там же.
6 См.: Чхартишвили Г. Ш. Писатель и самоубийство. М., 1999. Вот лишь несколько выхваченных наугад высказываний. Все они демонстрируют готовность автора обходиться светским решением проблем, в обход сферы религии: "В современном мире религиозное чувство и соответственно сдерживающее воздействие религиозной этики ослабло, но разве человечество в целом стало от этого менее нравственным? Пожалуй, нет. Скорее наоборот. Жестокость и нетерпимость, два самых несимпатичных качества, сейчас менее популярны, чем пятьсот лет назад, когда в Бога верили поголовно все" (стр. 52). "Это вовсе не бунтарство против Бога. Это попытка превратить монолог своего сознания в диалог с Hим - ни в коем случае не в перебранку, в беседу" (стр. 113). "Вот чем смущает меня вера - даже милейшего русского интеллигента Бердяева она заставляет признавать лишь свое кредо, а все прочие безоговорочно отвергать" (стр. 126). "Как большинство людей моего поколения и воспитания, я не религиозен, но и не атеист - допускаю все возможные версии и гипотезы, завидую верованиям других людей и жалею, что не могу к ним присоединиться" (стр. 437).