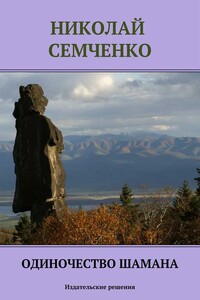Шмелиный мед | страница 45
Он понял, что на юге боль — гораздо более обычное явление и на нее обращают больше внимания.
Поэтому ему доставил радость или, по крайней мере, утешение тот факт, что она решила совершить эту поездку ради него и остаться у него. Поскольку она с юга, он может совершенно свободно, да, почти легкомысленно говорить с ней о боли, ему не надо скрывать от нее боль, она для нее — самая обычная вещь на свете.
Рядом с каждым человеком, находящимся при смерти, по его мнению, должен был бы находиться кто-нибудь с юга Швеции, тот, кто умел бы, не смущаясь, если не сказать совершенно равнодушно, общаться с болью и выслушивать любые жалобы.
Последние боли в жизни тоже невыразимо тяжелы, они не только мучения сами по себе, в них содержатся следы и обрывки бесконечных болей прошлого, они мутны и загрязнены всеми наслоениями, взбаламученными собственной жизнью; его, Хадара, голова вообще-то не настолько велика, чтобы вместить все те боли, которые ему приходится испытывать и обдумывать. С одной стороны, боль изматывает его до такой степени, что он предпочел бы уснуть вечным сном, а с другой — заставляет его бодрствовать. Первое время после смерти он будет только отдыхать, а потом поглядим.
Но в конце он бросил все-таки несколько слов о мальчике, которого ему родила Минна.
— Он вырос, сказал он. — Он вырос, и стал большим.
В другой раз она спросила Хадара:
Кому достанется твое добро, когда тебя не будет? Когда ты в конце концов умрешь. Уж не Улофу!
Конечно. Но после того, как ты сделаешься наследникомм Улофа, построишь баню и потом умрешь? Никому!
Никому? А лес, дом, нарубленные дрова и хозяйственные постройки? Никому!
Так нельзя, — сказала она. — Должен быть кто-то.
Все должно воротиться. Воротиться?
Вернуться обратно. Стать таким, каким я было. Не понимаю. Тогда он попытался пояснить: все должно вернуться к исходному состоянию, это будет возвращение, при котором, по его представлению, все человеческое и неестественное медленно сотрется, скроется в побегах и молодом лесу, оно останется, но настолько молчаливо и скрытно, что никому не будет до него никакого дела.
Оно будет в сохранности, — сказал он.
Ты мерзнешь, — однажды заметил Улоф. Нос посинел, и руки потрескались.
И она согласилась: ей холодно, она мерзла все эти недолгие дни, что провела в Эвреберге, дни, которые можно пересчитать по пальцам.
— Хуже всего, — сказала она, — оттепель с сильным ветром.
— У тебя худая одежонка.
— Я же не живу здесь. Тут, в горах, мне не надо одеваться по погоде.