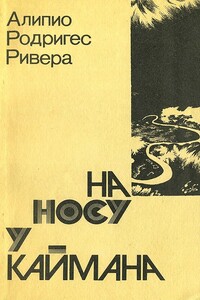Шмелиный мед | страница 29
Это и правда была она, его кукла: ни Улоф не обнаружил ее, ни гниль не тронула, уже в то время его хитрость превосходила хитрость брата. Удивительно, да просто чудо, что она таким вот образом сохранилась для него, такая нетронутая и невинная, словно воскресла из мертвых, наверняка в этом есть скрытый смысл.
— Видишь, — сказал он, — как она вроде улыбается глазами, и какие свежие краски на лице, и как красиво вырезаны коленки и ступни!
— Да, — ответила Катарина, — поразительно.
Можно она будет ночью спать со мной? спросил он.
Тебе не меня надо спрашивать.
— А кого же еще?
Позже она сообщила об этом Улофу.
Хадар заполучил обратно свою куклу, сказала она, — деревянную куклу, которая была у него в детстве.
Это невозможно, — возразил Улоф. Он говорил, что привязал к ней камень и выбросил в озеро.
Улоф закашлялся. Скорее всего, ему предстояло умереть во время приступа кашля.
— Она лежала под хлевом, — сказала она. — На плоском камне.
Вот сволочь. Как же я ее искал! Как искал!
Но потом Улоф переменил тему разговора; похоже, ему это было необходимо.
— Значит, ты пишешь? — спросил он. — Эту свою книжку? Не только Хадаром занимаешься, но и книжкой?
Скоро она уедет, она ему об этом напомнила, но еще какое-то время она может побыть здесь, она остается, но в то же время уже в пути, если он понимает, что она хочет сказать. Да, она пишет, и еще у нее Хадар, и ни то ни другое особой заботы для нее не представляет. Она пишет понемногу каждый вечер, раньше она обычно писала по утрам, а теперь по вечерам, это произошло вполне естественно. Выбираешь себе тему. Любая тема вмещает что угодно. Здесь, в горах, она более или менее освоилась, чувствует труднообъяснимую связь с его, Улофа, и брата его Хадара взаимными действиями, этим бессмысленным соревнованием по продлению жизни, которое она невольно воспринимает как проявление искусства, представляющее нечто иное и в каком-то смысле равноценное ее собственным устремлениям. Да, ей здесь хорошо. Смертельная и в то же самое время шутовская серьезность, соединение любви и равнодушной покорности судьбе — именно это могло наполнить ее ощущением временной принадлежности к дому. Она всегда старалась избегать того, чтобы переоценивать значение собственной жизни и тем самым слишком бесцеременно ею пользоваться. Она не какая-нибудь значительная писательница, никогда не хотела стать таковой, она просто пишет.
Он не сводил с нее глаз, от бесплодного усилия расшифровать и понять ее слова подкожный жир на лице, казалось, застыл.