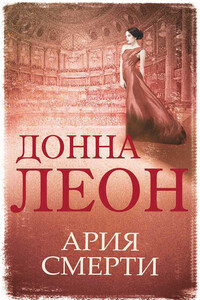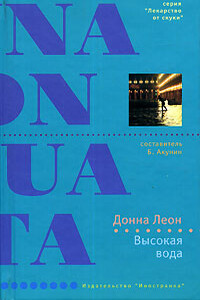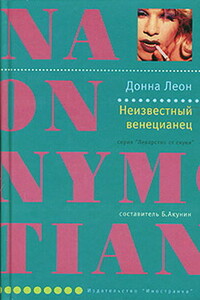Смерть в «Ла Фениче» | страница 25
— А дочь?
— И она тоже пережила войну…
— Ну а потом?
— А что потом? — Санторе пожал плечами. — Вообще-то говоря, ведь ничего не стоит забыть о прошлом человека и помнить только о его гении. Равного ему не было и, боюсь, не будет.
— Значит, вот почему вы согласились ставить для него эту оперу— просто вам было удобнее не вспоминать о его прошлом?
Это был простой вопрос, не упрек, и Санторе так его и воспринял.
— Да, — тихо проговорил он. — Я решил поставить эту вещь, чтобы мой друг смог у него петь. Поэтому я решил, что лучше мне забыть обо всем, что я знаю или подозреваю, или по крайней мере не принимать это во внимание. Не уверен, что это вообще имеет какое-то значение — особенно теперь. — Брунетти видел, как в глазах Санторе мелькнула некая догадка. — Ведь теперь ему уже никогда не спеть у Хельмута, — И он добавил, словно давая Брунетти понять, что истинный предмет их беседы фактически все время лежал на поверхности: — Что может служить доказательством, что у меня не было никаких оснований его убивать.
— Да, похоже на то, — согласился Брунетти без особого интереса. — Вы с ним раньше работали?
— Да. Шесть лет назад. В Берлине.
— А там у вас с ним не возникало каких-либо сложностей из-за вашей гомосексуальной ориентации?
— Нет. У меня таких проблем не возникает. Поскольку я достаточно известен, он хочет работать со мной. Позиция Хельмута— ангела-хранителя западной морали и библейских заповедей— всем прекрасно известна, но в этом мире вы долго не продержитесь, если не хотите сотрудничать с гомосексуалистами. Хельмут заключил с нами нечто вроде перемирия.
— А вы—с ним?
— Разумеется. Как музыкант он столь близок к совершенству, сколь это вообще возможно для человека. И ради того, чтобы работать с таким музыкантом, о человеке можно и забыть.
— А что вас еще в нем не устраивало — как в человеке?
Прежде чем дать ответ, Санторе долго думал.
— Нет, я больше ничего о нем не знал такого, что могло бы вызвать неприязнь. Вообще-то немцы мне не очень симпатичны, а он даже слишком немец. Но я не об этом. Дело не в симпатии или неприязни. Просто он ходил с видом такого морального превосходства, словно он, ну, светоч во мраке времен…— Санторе скорчил соответствующую гримасу, — Нет, я не прав. Наверное, просто время позднее — или коньяк. К тому же он был пожилой человек, а теперь его не стало.
Брунетти вернулся к началу разговора:
— Так что же вы ему сказали, когда с ним спорили?
— А что всегда говорят, когда спорят, — устало ответил Санторе. — Что он обманщик, а он меня гомиком обозвал. Тогда я ему наговорил всякого и про спектакль, и про музыку, и про то, как он дирижирует, а он мне в том же духе — насчет режиссуры и постановки. Как обычно. — Он замолчал и вжался в