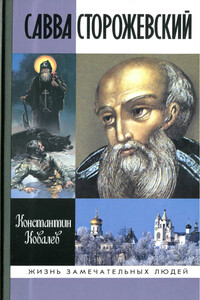Память, говори | страница 47
Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что Бэрнес, к тому времени покойный, был весьма ценимым в Эдинбурге знатоком и переводчиком стихов русских романтиков, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем и безумием; и что мой кроткий учитель рисования, которому я щедро давал в современники самых дремучих моих дедушек и дряхлых слуг, женился на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам. Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, продлив свой извилистый ход за личную границу, столь изящно, с такой экономией средств проведенную моей детской памятью, которую я, как я сам полагал, уже подписал и скрепил печатью.
– А что Яремич? – одним летним вечером сороковых годов спросил я у М. В. Добужинского, с которым мы прогуливались по буковой роще в Вермонте. – Его еще помнят?
– А как же, – ответил Мстислав Валерианович. – Он был одарен исключительно. Не знаю, каким он был учителем, зато знаю, что вы были самым безнадежным учеником из всех, каких я когда-либо имел.
Глава пятая
1
Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою романа драгоценную мелочь из моего прошлого, как она уже начинает чахнуть в искусственной среде, куда я столь резко ее перенес. Хотя мое сознание еще сохраняет ее, личное ее тепло, обратное обаяние пропадают, и вот уже она становится частью скорей моего романа, чем моего прежнего “я”, которое, казалось бы, так хорошо защищало ее от посягательств художника. Целые дома рассыпаются в моей памяти совершенно беззвучно, как в немом кинематографе прошлого, и образ моей французской гувернантки, которую я одолжил когда-то мальчику из одной моей книги, быстро тускнеет, поглощенный описанием детства, с моим никак не связанного. Человек во мне восстает против писателя, и вот попытка спасти что еще осталось от бедной Mademoiselle.
Женщина крупная, очень дородная, она вразвалку вошла в нашу жизнь в декабре 1905 года, когда мне было шесть лет, а брату пять. Вот и она. Так ясно вижу ее пышные, зачесанные кверху волосы с непризнанной сединой, три морщины на суровом лбу, густые брови, стального цвета глаза за стеклами пенсне в черной оправе, эти зачаточные усы, эту неровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до добавочной багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот она садится, вернее приступает к акту усадки: ходит студень под нижнею челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышущуюся массу камышовому сиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.