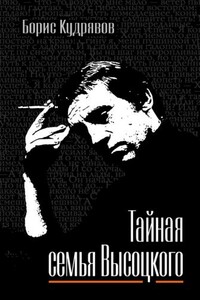Память, говори | страница 17
3
Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе – таково было ее простое правило. “Вот запомни”, – говорила она заговорщицким голосом, предлагая моему вниманию заветную подробность Выры – жаворонка, поднимающегося в простоквашное небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре бурого песка, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам времени, рассыпанным по нашему сельскому поместью. Прошлое свое она лелеяла с таким же ретроспективным пылом, с каким я теперь лелею мое. Так что я, по-своему, унаследовал восхитительные подобия, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество – и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки стали мне столь же дороги и священны, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию; и отмеченный липою подъем в деревню Грязно (ударение на последнем слоге), – столь крутой, что приходилось велосипедистам брать “bike by horns” (“быка за рога”), как говаривал мой отец, сам завзятый велосипедист, – подъем, где он сделал ей предложение; и старая теннисная площадка в так называемом “старом” парке, ныне заросшая плевелами, поганками и кротовыми кочками, свидетельница, в восьмидесятых и девяностых, веселых перекидок (даже ее угрюмый отец сбрасывал, бывало, сюртук и потрясал, примериваясь, тяжеленной ракетой), которую к моим десяти годам природа истребила с доскональностью войлочного лоскута, стирающего геометрическую задачку.
К тому времени новая теннисная площадка – на краю “нового” парка – была устроена рабочими, выписанными ради этого из Польши. Проволочная сетка просторной ограды отделяла площадку от цветущих лугов, окружавших ее глину. После дождливой ночи поверхность ее обретала бурый лоск, а белые линии приходилось заново прокрашивать разведенным мелом, приносимым в зеленом ведерке Дмитрием, самым маленьким и стареньким из наших садовников, кротким карликом в черных сапогах и красной рубахе, согбенно и медленно пятившимся, пока ползла по линии его кисть. Изгородь из желтых акаций с проемом посередке, образующим зеленую дверь корта, шла параллельно ограде и дорожке, прозванной “тропинкой сфинксов”, из-за того, что вечерами сумеречники навещали росшие вдоль нее сирени, также расступавшиеся посередине. Тропка эта быда перекладиной огромного Т, чью ножку образовывала просадь одногодков моей матери, черешчатых дубов (о которых я уже говорил), прорезавшая парк по всей его длине. Глядя вдоль этой аллей от изножия Т, с полной ясностью различаешь маленький яркий прогал в пяти сотнях ярдов отсюда – или в пятидесяти годах от того места, где я сейчас нахожусь. Неизменным партнером моего брата в наших темпераментных семейных парах неизменно был наш с ним тогдашний учитель или отец, – когда он оставался с нами в деревне. “Игра!” – на старинный манер вскрикивала мать, выставляя маленькую ножку и клоня голову в белой шляпе при начале старательного, но слабого сервиса. Я сердился на нее, а она – на мальчиков, подносивших мячи, двух босоногих деревенских пареньков (курносого внука Дмитрия и брата-близнеца хорошенькой Поленьки, дочери старшего кучера). Ко времени жатвы северное лето становилось тропическим. Багровый Сергей зажимал ракету коленями и медлительно протирал очки. Вижу мою рампетку, стоящую прислоненной к ограде – просто на всякий случай. Руководство Уоллиса Майерса по игре в лоун-теннис лежит, раскрытое, на скамье, и после каждого обмена отец (игрок первоклассный, с пушечной подачей в стиле Фрэнка Райзли и прекрасным “подъемным драйвом”) педантично справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать – отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча. И порой чудовищный ливень заставляет нас забиваться под навес в углу площадки, посылая тем временем старика Дмитрия в дом, за зонтами и дождевиками. Через четверть часа он появляется, нагруженный горой одежд, в перспективе длиной аллеи, которая по мере его приближения опять обзаводится леопардовыми пятнами, и солнце сияет заново, и его огромное бремя становится ненужным.