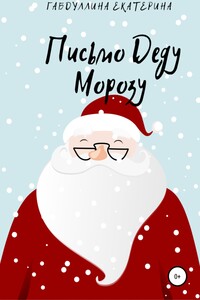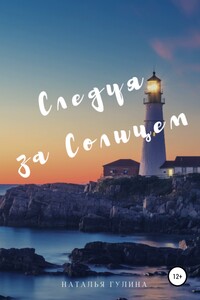От двух до пяти | страница 34
Конечно, подражательные рефлексы ребенка чрезвычайно сильны, но ребенок не был бы человеческим детенышем, если бы в свое подражание не вносил критики, оценки, контроля. Только этот неослабный контроль над нашей установленной речью дает ребенку возможность творчески усвоить ее.
Когда эти мои наблюдения над аналитическим подходом ребенка к словам впервые появились в печати, против них безапелляционно восстали педологи. Поэтому я с таким радостным чувством прочитал у одного из самых зорких и тонких экспериментаторов, покойного Н.X.Швачкина, что уже с двух лет "ребенок начинает высказывать свое отношение к речи окружающих, замечая ее особенности, и даже критиковать речь своих товарищей"*.
______________
* Н.X.Швачкин, Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, "Известия Академии педагогических наук", М. 1954, вып. 54, стр. 127.
Приятно сознавать, что твои мысли, высказанные лет тридцать назад, вполне подтверждаются авторитетом науки.
"Активное отношение ребенка к речи окружающих, - говорит ученый, выражается и в том, что он начинает уточнять их речь, внося в нее коррективы"*.
______________
* Н.X.Швачкин, Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления, "Известия Академии педагогических наук", М. 1954, вып. 54, стр. 128.
Ведь это буквально то самое, что было отмечено мною в одном из первых изданий книжки "От двух до пяти"!
В статье Швачкина изучаются младшие дети - от одного года до двух с половиною, но если бы эксперименту подверглись дошкольники более старшего возраста, стало бы еще очевиднее, что ребенок усваивает нашу "взрослую" речь не только путем подражания, но и противоборствуя ей.
Это противоборство бывает двоякое:
1. Неосознанное, когда ребенок даже не подозревает о том, что он забраковал наши слова и заменил их другими.
2. Нарочитое, когда ребенок сознает себя критиком и реформатором услышанных им речений.
И в том и в другом случае основные законы установленной, выработанной взрослыми речи остаются для ребенка непреложными. На них он никогда не посягнет; если же он восстает против некоторых наших речений, то лишь для того, чтобы вступиться за эти законы. Мы кажемся ему законодателями, нарушающими свои же уставы, и он требует, чтобы мы выполняли их с наивысшею строгостью.
Иногда, впрочем, дети великодушно снисходят к заблуждениям взрослых, и полемика завершается полюбовным размежеванием двух различных "систем языка".