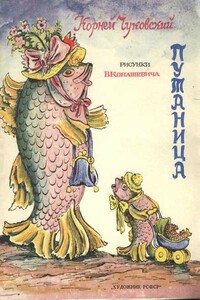О Чехове | страница 25
Даже теперь, через полвека, обидно читать его злые и дерзкие отзывы о произведениях великого мастера. «Рухлядь», «дребедень», «ерундишка», «жеваная мочалка», «канифоль с уксусом», «увесистая белиберда» - таковы были обычные его приговоры чуть ли не каждому новому произведению Чехова.
Чеховская пьеса «Иванов» еще не появлялась в печати, а уж он называл ее «Болвановым», «поганой пьесенкой». Даже изумительная «Степь»,^тот - после Гоголя - единственный it мировой литературе лирический гимн бескрайним просторам России, и та названа у него «пустячком», а о ранних шедеврах Чехова, о таких, как «Злоумышленник», «Ночь перед судом», «Скорая помощь», «Произведение искусства», которые нынче вошли в литературный обиход всего мира, объявлено тем же презрительным тоном, что это рассказы «плохие и пошлые…». О «Трагике поневоле»: «паршивенькая пьеска», «старая и плоская шутка». О «Предложении»: «пресловуто-глупая пьеса…»
Замечательнее всего то, что этим жестоким и придирчи-|||.1м критиком, так сердито браковавшим чуть ли не каждое I морение Чехова, был он сам, Антон Павлович Чехов. Это он НЮЫвал чеховские пьесы пьесенками, а чеховские рассказы - дребеденью и рухлядью.
До нас дошло около четырех с половиною тысяч его писем к родственникам, друзьям и знакомым, и характерно, что ни в одном из них он не называет своего творчества - творчеством. Ему как будто совестно применять к своей литературной работе такое пышное и величавое слово. Когда одна писательница назвала его мастером, он поспешил отшутиться от этого высокого звания:
«Почему Вы назвали меня "гордым" мастером? Горды только индюки» (16, 302).
Не считая себя вправе называть свое вдохновенное писательство творчеством, он во всех своих письмах, особенно в первое десятилетие литературной работы, говорит о нем в таком нарочито пренебрежительном тоне:
«Я нацарапал… паршивенький водевильчик… пошловатень-кий и скучноватенький…», «Постараюсь нацарапать какую-нибудь кислятинку…», «Спасибо за Ваше доброе, ласковое письмецо… Представьте, оно застало меня за царапаньем плохонького рассказца…», «Накатал я повесть…», «Гуляючи, отмахал комедию…» (14,222, 247; 23, 365).
«Отмахал», «смерекал», «накатал», «нацарапал» - иначе он и не говорил о могучих и сложных процессах своего литературного творчества, шло ли дело о «Скучной истории», или о «Дуэли», или о «Ваньке», входящем ныне во все хрестоматии, или об «Именинах», написанных с толстовскою силою.