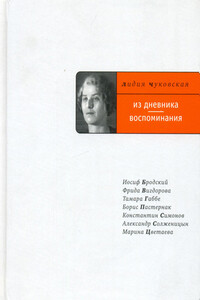Спуск под воду | страница 60
- Разрешите узнать, почему мне нельзя поцеловать вас?
Что я могла ответить! Я и сама не знала, почему. Быть может, мне было неприятно то деловитое, предприимчивое движение, которым он предварительно отбросил папиросу... Не знаю.
Я встала, отряхнула шубу. Мы молча пошли домой. Я заметила, что елки в тяжелом снегу похожи на большие белые треугольники. У Билибина было злое лицо. "В самом деле, почему?" думала я. "Вот, испортила прогулку. Но ведь я не совсем виновата... Или не только я... Ведь не от моей воли это зависит... нельзя или можно..."
- Так и не откроете мне эту государственную тайну? - насмешливо спросил Билибин.
- Вы не сердитесь на меня, Николай Александрович, - сказала я. - Трудно объяснить. У Герцена где-то говорится: "Слово это плохо берет".
Неподалеку от санатория мы встретили Людмилу Павловну. Она вернулась утром и я уже виделась с ней. Про сестру она ничего не узнала. "В прокуратуре народу - труба не протолченая и никакого толку не добиться". А вернувшись, она застала у себя на столе телеграмму откуда-то с севера: сестра просит прислать свечи, спички, сахар... Живет где-то в землянке. "Слава Богу, сказала я, не в лагере значит, раз может телеграфировать". "А как вы думаете, - спросила меня Людмила Павловна в ответ, - никто не видал телеграммы?"
Сейчас она обдала нас ароматом духов и светской улыбкой.
- В лесу сегодня прямо сказка, - говорила она, оправляя пушистый платок. - Совсем как на сцене Большого Театра.
Билибин, против обыкновения, не поцеловал ей обе руки и не стал уверять, что она стройна как пальма.
- Что это Векслер разоткровенничался с вами? - спросила я, когда мы уже подходили к дому. - По какому это случаю?
- По-видимому, считает меня своим счастливым соперником. И может позволить себе жалобы и пени...
Мы поднимались на крыльцо. Я впереди, он сзади.
-- А вы? - спросила я и повернулась к нему. Глаза наши были на одном уровне.
- Что - я?
- Вы то сами - считаете себя его счастливым соперником?
- Соперником - да, но, как вам известно, не особенно-то счастливым... "Слово плохо берет" - передразнил он меня с искренней злостью. - Все то вы умничаете, все то цитируете...
Отворив передо мною тяжелую дверь, он стал веником на пороге схлестывать свои высокие охотничьи сапоги.
И вот вечер. За обедом, за ужином он был необыкновенно сух со мной. И после ужина, вместо того, чтобы, как обычно, войти в мою комнату, сесть на низенькую скамеечку и отвечать молчанием или какой-нибудь новой страшной подробностью на мои вопросы - он прошел в гостиную и сидит там до сих пор, и, мне кажется, я отсюда вижу его крупные руки, сдающие карты. Иногда до меня доносится его уверенный голос. Мне хочется плакать. Да простит его Бог. Как было хорошо две недели назад: меня нисколько не беспокоило, сидит ли он в гостиной, нет ли? Чужой человек, пусть сидит, где хочет. И я могла ходить в рощу одна, не думая, увидев пурпурово серый круг над березами, как принести его ему, могла совершать свой спуск - и читать стихи - и рассматривать людей - и писать письма... А сейчас?