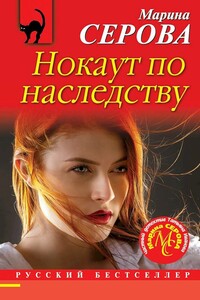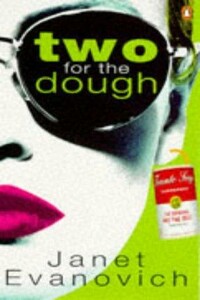Полный финиш | страница 3
— Ма-а-ама!!
Дима рванулся так, что даже здоровенный громила в дверях отшатнулся и попятился. Но в следующую секунду его здоровенная пятерня упала на шею Димы и сгребла щуплого студента, как хватают за загривок рахитичного котенка.
Калиниченко попытался вырваться, не переставая что-то кричать в полубеспамятстве и ужасе, но тут же получил такой удар в голову, что вспыхнувший ярко-зеленым пламенем пол прыгнул ему в лицо, а под черепом полыхнула жуткая, раздирающая, тошнотворная боль…
— Ты что же творишь, дятел? — услышал Дима сквозь боль.
— А что, босс?
— Бабу завалил зачем-то, теперь этого сверчка долбишь! Нам еще его башка пригодится!
…Что было после, Дима помнит плохо. Вспыхивали ожоги боли, кружились вокруг него тирады вкрадчивых слов, перебиваемые тяжелой и грязной матерной бранью. Лишь одно, лишь одно плотно сидело в Калиниченко, будто загнаное в него осиновым колом: маму убили…
— Пойдем, кажется, ему все понятно, что он должен делать, — донеслось до Димы. Он повернул голову, от чего, как показалось ему, в шею ужалила змея. Боль продралась даже сквозь плотную дурнотную пелену онемелости.
И тогда — из какого-то марева — выплыло женское лицо, перекошенное гневом.
— Да что же это такое? — крикнула женщина. — А говорили… пошли друга навестить!
Глава 1 Разговор по душам
Я вернулась из Петербурга ранним майским утром. Когда я ступила на перрон, меня нежно, как галантный танцор подхватывает даму в вальсе, обволокли порывы ласкового весеннего ветра, впитавшего в себя не только индустриальные запахи шпал, рельсов, разогретого мазута, но и благоухание нежной, только что народившейся на свет листвы.
Я очень устала. Не столько физически, сколько морально. В северной столице мне пришлось выпутываться из весьма неприятного дельца, в которое меня вовлекли моя безудержная склонность к приключениям сомнительного толка, а равно и скверный характер местной братвы.
На память о посещении «музея под открытым небом», как претенциозно называют Санкт-Петербург различные искусствоведы и культурологи, я привезла глубокий и плохо подживающий шрам на бедре и глубокую неприязнь к подворотням близ Невского проспекта, где меня два раза едва не препроводили на тот свет.
На перроне я увидела тетю Милу, которая, заметив меня, бодро устремилась к вагону, едва не опрокинув по пути какую-то приземистую старушку со свирепым лицом и несколькими огромными тюками, масса которых, по всей видимости, не намного уступала весовому показателю олимпийского рекорда по тяжелой атлетике в категории этак до девяноста пяти килограммов.