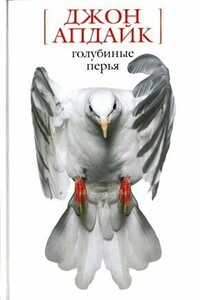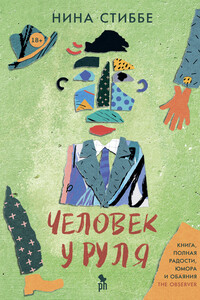Давай поженимся | страница 65
Он поглаживал ее грудь поверх комбинации, и теперь, после его кошачьего мурлыканья, у нее возникло неприятное чувство, будто он вот-вот ее съест. Она оттолкнула его и, сбросив покрывало с его лица, спросила:
– Так ты об этом спрашивал?
Он уткнулся лицом ей в плечо – большой нос его был таким холодным – и закрыл глаза. Теперь, украв у нее сон, он, видимо, сам решил соснуть. Кожей плеча она почувствовала, как его губы расползаются в улыбке.
– Я люблю тебя, – вздохнул он. – Ты так хорошо все видишь.
Потом она удивлялась, как могла она быть до такой степени слепа – и слепа так долго. Улик было сколько угодно: песок; его необъяснимые появления и исчезновения; то, что он бросил курить; его победоносная, безудержная веселость на вечеринках в присутствии Салли; та свойственная только жене мягкость (в тот момент Руфь словно ужалило, и картина эта надолго осталась в ее памяти), с какою Салли как-то раз взяла Джерри за руку, приглашая танцевать. Одержимость идеей смерти, владевшая Джерри прошлой весной, казалась Руфи настолько неподвластной доводам разума, настолько непробиваемой, что новые черточки в его поведении она отнесла к той же области таинственного: новая манера говорить и вышагивать; приступы раздражительности с детьми; приступы нежности к ней; бесконечный самоанализ, без которого не обходилась ни одна их беседа; бессонница; ослабление его физических притязаний и какая-то новая холодная властность в постели, так что порой ей казалось, что она снова с Ричардом. Как могла она быть настолько слепой? Сначала она подумала, что от долгого созерцания собственной вины приняла появление нового за следствие прошлого. Она призналась себе тогда, – хотя ни за что не призналась бы в этом Джерри, – что не считала его способным на такое.
Джерри попросил ее о разводе в воскресенье – в воскресенье той недели, когда он после двух дней, проведенных в Вашингтоне, прилетел в каком-то смятенном состоянии одним из последних самолетов. Расписание тогда сбилось, все рейсы были переполнены, и она сидела на аэродроме Ла-Гардиа, встречая самолет за самолетом. Когда, наконец, знакомый силуэт – узкие плечи, коротко остриженная голова – вырисовался на фоне мутных огней летного поля и заспешил к ней, она немало удивилась той униженной радости, с какой забилось у нее сердце. Будь она собакой, она, наверное, подпрыгнула бы и лизнула его в лицо; будучи же всего лишь женой, она позволила ему поцеловать себя и повела к машине, по дороге слушая рассказ о поездке: Госдепартамент; несколько минут с Вермеером в Национальной галерее; относительно крепкий сон в гостинице; жалкие подарки детям, которые он купил в магазине мелочей; одуряющее ожидание в аэропорту. По мере того как городская сумятица оставалась позади, его говорящий профиль в теплом склепе машины утрачивал в ее глазах ореол чуда, и к тому времени, когда они со скрежетом остановились на дорожке у дома, оба не чувствовали ничего, кроме усталости; они поели куриного супа, выпили немного бурбона и юркнули в холодную постель. Однако потом это его возвращение домой казалось ей сказкой – последним оазисом, когда еще была твердая почва под ногами, перед этим дождливым воскресным днем, с которого началось плавание по морю кошмара, ставшее с тех пор ее естественным состоянием.