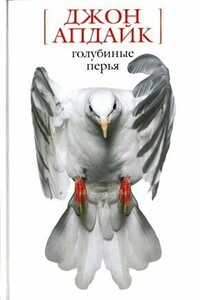Давай поженимся | страница 118
– Позволь мне кое в чем тебе признаться. В ту субботу, когда ты отправился стричься, не сказав мне, и пропадал всю вторую половину дня, я то и дело смотрела в окно – отчетливо помню каждый листик на вязе – и около половины шестого подумала: “Он ушел. Он бросил меня”. И почувствовала облегчение.
Он, наконец, прижал ее к себе, и в слиянии их тел было тепло, но Руфь не могла полностью отдаться ему, потому что в объятиях Джерри чувствовала что-то недоброе, как в силе земного притяжения: ему доставляло удовольствие то, что она пошатнулась, что разум отказывает ей.
Она сама перестала себя понимать: грань между ее восприятием и чувствами перестала быть четкой. Сентябрь уходил в небытие: явился рабочий, отрегулировал печь, и остывающими ночами она теперь сама включалась и выключалась. Когда Руфь лежала без сна, ей не давало покоя непривычное урчание: она не была уверена, реальный ли это звук, и если да, то откуда он – то ли печь гудит внизу, то ли самолет в небе, то ли трансформаторы на столбе за окном спальни. Где-то на просторах ее жизни работал мотор – но где? Джерри и Салли – она была уверена – так сильно ранили друг друга, что ни о какой возможности примирения не могло быть и речи, но Руфь чувствовала, что судьба ткет свое полотно и события складываются в рисунок, родившийся в темных закоулках ее мозга. Мир таков, какой он в общем-то есть; чего мы ждем, то и случается; а ждем мы того, чего жаждем. Как негатив порождает отпечаток, так и Руфь породила Салли. Откуда иначе то раздражение, с каким она относится к изъянам в красоте Салли – горькой складочке в уголке рта, слишком пышным бедрам? Руфи хотелось, чтобы Салли была более безупречной, – как ей хотелось, чтобы Джерри был более решительным. Руфь, воспитанную в иной вере, раздражало то, что Джерри так радуется своей раздвоенности, как доказательству глубокой пропасти между телом и душой, благодаря которой человек только и может избегнуть забвения. Все это слишком уж отдает религиозными бреднями, фантасмагорией. Дикий зверь его страсти чересчур легко подчинился велениям разума Руфи. Он застыл на три месяца, стоило ей взять и попросить, и совсем исчез с горизонта, лишь только она замахнулась, а у Чарли слезы блеснули в глазах. Слишком все получилось легко, слишком странно. Наверно, думала Руфь, надо бы поднапрячься и теперь, когда ночи стали равны дням, усилием воли разрядить напряжение лета. Она – пленница: пропасть между ее рассудком и миром, через которую был перекинут мостик из тысячи догадок, сомкнулась, и она оказалась плененной, как белый единорог на гобелене.