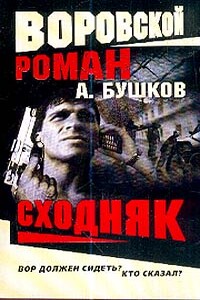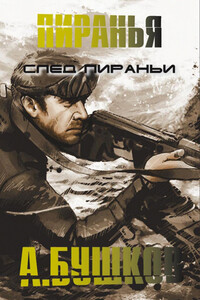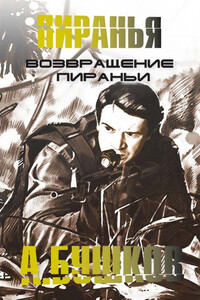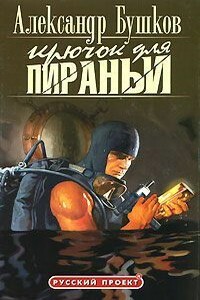Гвардейское столетие | страница 53
Что до второго, то Петр опять-таки продолжал прежние традиции русских самодержцев и пытался довести до логического конца процесс, начатый за сотни лет до него…
Еще Иван III (однажды преспокойно приказавший высечь на людях архимандрита Чудова монастыря) всерьез подумывал о секуляризации, то есть переводе в светское владение обширных монастырских и церковных земель. Кое-какие шаги к этому пытался предпринять и Иван Грозный на знаменитом Стоглавом соборе, но церковь в те времена представляла собой силу, перед которой пришлось отступить и Грозному. Он добился лишь того, что запретил церкви самовольную покупку вотчинных земель «без доклада царю». И Михаил Романов, и Алексей Михайлович всячески пытались ограничить возможности церкви в приобретении новых владений, порой прямо запрещая подданным жертвовать церквам и монастырям как земли, так и крестьян. Пытался «отписать на государство» церковные владения и Петр I, но и «дракону московскому» пришлось отступить. Даже крайне набожная Елизавета в 1757 г. разработала схожий проект, но опять-таки не рискнула претворить его в жизнь.
Объяснение лежит на поверхности: обладавшие особым статусом обширнейшие владения церкви попросту мешали нормальному развитию экономики, что прекрасно понимали и русские самодержцы… и иные церковные иерархи!
В самой православной церкви несколько сотен лет шла ожесточенная борьба иерархов с так называемыми «нестяжателями – начиная с ереси „стригольников“ (30-е годы XIV века). „Нестяжатели“ как раз и выступали против превращения церкви в „мире кого“ собственника-феодала – впрочем, началось это даже не со стригольников, а с выступлений известного проповедника XII века Кирилла Туровского и его последователей. На знаменитом соборе 1274 г. во Владимире предшественники „нестяжателей“ четко сформулировали свою точку зрения: „Невозможно и Богу работати, и мамоне“.
Подробно рассматривать эту интереснейшую тему я не могу, поскольку пришлось бы писать отдельную толстую книгу, чтобы рассказать о многолетних дискуссиях, ожесточенных словопрениях на церковных соборах, сожжениях на кострах еретиков-реформаторов, о Феодосии Косом, Максиме Греке, Вассиане Патрикееве, дьяках Курицыных, о перекличке идей «нестяжателей» с идеями католиков-францисканцев и многом, многом другом…
Словом, зачислять Петра III в гонители православной церкви нет оснований. Скорее наоборот – именно Петр был инициатором договора от 8 июня 1762 г., по которому Россия обязывалась защищать права и интересы православных подданных Жечи Посполитой. А русский посланник в Вене Голицын получил от Петра указание вручить резкую ноту венецианскому посланнику в Вене – «по причине претерпеваемых греческого вероисповедания народом великих от римского священства обид и притеснений». Из отчета Голицына – уже Екатерине – следует, что власти Венецианской республики вынуждены были принять соответствующие указы, ограждающие права своих православных подданных… После чего у славян Западной Европы и Балкан Петр приобрел огромную популярность. Дошло до того, что один из предводителей восстания чешских крестьян в Австрийской империи выдал себя за… русского принца! Знаменитый Степан Малый, балканский самозванец, благодаря тому, что выдавал себя за Петра III, стал правителем Черногории (а впоследствии появился даже… Лжестепан Малый!).