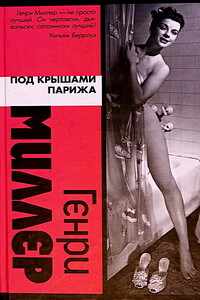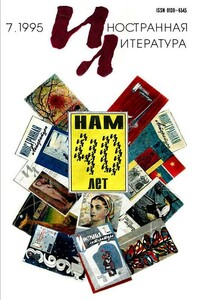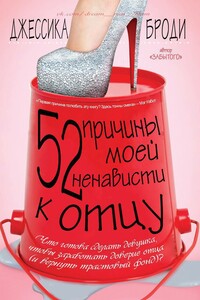Колосс Маруссийский | страница 74
На обратном пути к автобусной остановке я задержался в деревне, чтобы напиться. Контраст между прошлым и настоящим был ужасный, как если бы была утрачена тайна жизни. Люди, окружившие меня, походили на грубых варваров. Дружелюбные и радушные, даже очень, они, в сравнении с минойцами, были тем не менее как вновь одичавшие без человеческой заботы домашние животные. Я думаю не об отсутствии у них нормальных условий жизни, тут я не вижу большой разницы между греческим крестьянином, китайским кули и американским иммигрантом, хватающимся за любую работу. Я думаю сейчас об отсутствии тех сущностных элементов жизни, которые делают возможным существование реального сообщества людей. Величайшее фундаментальное свойство, недостаток которого зримо проявляется повсюду в нашем цивилизованном мире, — это полное отсутствие чего-либо похожего на общинное существование. Мы превратились в духовных кочевников; все, что связано с душой, выброшено за ненадобностью, носится ветром, как мусор. Агиа Триада[50], из какой последующей эпохи на нее ни смотреть, сияет бриллиантом постоянства, целостности, значительности. Когда жалкая греческая деревушка, подобная той, о которой я говорю и каких в Америке тысячи, украшает свое убогое, бессмысленное существование телефоном, радио, автомобилем, трактором и прочая, и прочая, смысл слова «общинный» столь фантастически искажается, что начинаешь спрашивать себя, а что имеют в виду, когда говорят: «общественная жизнь». В этих спорадических людских агломерациях нет ничего человеческого; они находятся ниже любой ступени развития, какие знала наша планета. Эти люди во всех смыслах ничтожней пигмеев, истинных кочевников, с восхитительным чувством безопасности купающихся в свободе.
Отхлебывая воду, имевшую странный привкус, я слушал воспоминания одного из этих уважаемых сельчанами болванов о дивных временах, когда он был в Геркимере, штат Нью-Йорк. Он держал там кондитерскую лавку и, видимо, был благодарен Америке за то, что она дала ему возможность скопить несколько тысчонок долларов, необходимых для возвращения на родину, к прежней привычной унизительной жизни, полной изнурительного труда. Он сбегал домой за американской книгой, которую сохранил как память о сказочных днях, когда жил как Крёз. Это был календарь фермера, рассыпавшийся на страницы, захватанный грязными пальцами, засиженный мухами, завшивевший. Только подумать, здесь, в самой колыбели цивилизации, чумазый придурок протягивает мне совершенно чудовищный образчик письменности — фермерский календарь.