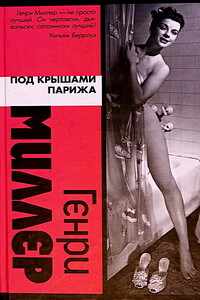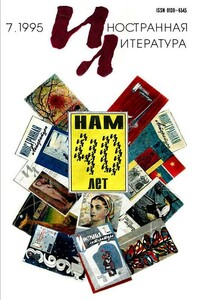. Глядя в мощный телескоп на Плеяды, ощущаешь великую и ужасную истину этих слов. В высших взлетах человеческого духа — в музыке и архитектуре прежде всего, ибо они единосущны, — есть иллюзия соперничества с архитектоникой, величием и великолепием небесных сфер; зло и разруха, которые человек творит, обуянный страстью к уничтожению, кажутся ни с чем не сравнимыми, если не задуматься о великих звездных катастрофах, вызванных помрачением ума у неведомого Волшебника. Нашим хозяевам подобные мысли, похоже, не приходили в голову; они со знанием дела рассуждали о весе звезд, расстоянии до них, о звездном веществе и тому подобном. Им обычные интересы сограждан чужды совершенно иначе, чем нам. Для них красота — это что-то второстепенное, для нас она — все. Для них физико-математический мир, нащупанный, размеченный, взвешенный и переданный с помощью инструментов, — это сама реальность, звезды и планеты — просто доказательство их непревзойденных и безошибочных логических построений. Для Даррелла и меня реальность лежит за пределами досягаемости их ничтожных инструментов, которые сами по себе не более чем грубая копия их ограниченного воображения, запертого навек в тюрьме гипотетической логики. Их астрономические выкладки и подсчеты, которыми они намеревались поразить, внушить благоговейный трепет, лишь вызывали у нас снисходительную улыбку, а то и невежливый откровенный смех. Что до меня, то факты и цифры никогда не производили на меня никакого впечатления. Световой год, по моему мнению, вещь не более удивительная, чем секунда или доля секунды. Это забава для кретинов, которой можно заниматься бесконечно, ad nauseam
[30], и так ни к чему не прийти. Точно так же я не убежден в реальности звезды, когда вижу ее в телескоп. Она может быть ярче, красивее, она может быть в тысячу, в миллион раз больше, чем если бы я видел ее невооруженным глазом, но от этого она ничуть не становится реальней. Говорить, что
именно так выглядит на самом деле какая-то вещь только потому, что увидел ее увеличенной, грандиозной, по-моему, совершенно бессмысленно. Она столь же реальна для меня, как если бы я ее вовсе не видел, а просто вообразил, что она там есть. И наконец, даже если и мне, и астроному она предстанет одинаковой по величине и яркости, мы все равно увидим ее разными глазами — одного восклицания Даррелла достаточно, чтобы подтвердить это.
Но переместимся дальше — к Сатурну. Впечатление, какое производит на профана Сатурн, как и наша Луна, когда смотришь на них сквозь увеличительные линзы, должно вызывать в ученом инстинктивный протест и сожаление. Никакие сведения и цифры, касающиеся Сатурна, никакое увеличение не могут объяснить того неоправданно тревожного чувства, какое вид этой планеты рождает в наблюдателе. Сатурн — живой символ всего мрачного, болезненного, бедственного, рокового. Его молочно-белый цвет неизбежно вызывает ассоциации с требухой, гноем, чувствительными органами, укрытыми от чужого глаза, позорными болезнями, пробирками, лабораторными препаратами, воспаленными миндалинами, мокротой, эктоплазмой, унылым предвечерьем, приступом меланхолии, войной инкуба и суккуба, бесплодием, анемией, мнительностью, пораженческим настроением, запором, антитоксинами, дурацкими романами, грыжей, менингитом, замшелыми законами, кабинетной волокитой, жизнью пролетариев, мерзкими лавчонками, Христианским союзом молодых людей, собраниями «Христианского действия», спиритическими сеансами, поэтами вроде Т. С. Элиота, фанатиками вроде Александра Доуи, целителями вроде Мэри Бейкер Эдди, политиками вроде Чемберлена, роковой случайностью вроде банановой корки и разбитой башки, мечтами о лучших днях, которые оканчиваются тем, что попадаешь под грузовик, тонешь в собственной ванне, случайно убиваешь лучшего друга, умираешь от икоты вместо того, чтобы пасть на поле брани, и так далее ad