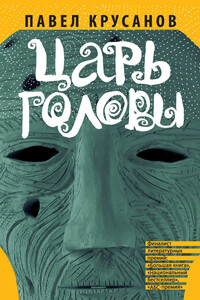Петля Нестерова | страница 8
Они глубоко проникли друг в друга, объединив свои территории, чей ландшафт составляли милые капризы, трогательные секреты, невинные странности и прочие речушки и кочки, так что односторонняя попытка восстановить границу другим соправителем этой страны расценивалась бы как преступный сепаратизм. В те давние двадцать четыре он знал достаточно слов, чтобы назвать и даже умно и подробно уточнить свои чувства к РЭ. И он называл их, обходясь, впрочем, без уточнений, которые справедливо считал крючкотворством, чем-то вроде казенной описи клада. Заносчиво претендуя на объективность, теми же словами он называл и чувства РЭ, но зачастую выходило так, что даже при краткой разлуке он, наводя на резкость внутренний взгляд, с содроганием видел в ней всего лишь безупречное орудие пытки, поэтому в случае с РЭ готов был прибегнуть к уточнениям. Ни прежде, ни после ни одна женщина, в каком бы виде, каким образом и в какой последовательности явлений она ни возникала в его жизни, не вызывала столь томительных и острых переживаний, какие доставляла РЭ во всех видах, каким бы образом и при каких обстоятельствах ни приходилось им видеться. В свои двадцать четыре он также знал, что этот источник пряных, зашкаливающих по всем линейкам чувств способен его разрушить: ведь и простой контраст температур вредит тому, что считается прочным – от зубов до рояля. Сочувствуя судьбе испорченных вещей, едва не угодив по пути под тогда еще не умалившийся трамвай, здесь, на потаенной скамье у перекрестка с Алтайской, он прощался с РЭ. Именно так: не потому, что разлюбил или был оскорблен наконец-то не воображенной изменой – он себя предусмотрительно консервировал, чтобы не сноситься прежде гарантийного срока. Никогда и никому, кроме РЭ (тут, на скамье), он в этом не признавался, утоляя оперативное любопытство приятелей чепухой и полагая при этом, что если он лжет в ответ на вопрос, на который вопрошающий не имеет права, то ложь его ложью отнюдь не является. В тот день РЭ до немоты была поражена его малодушием. И хотя прощание сразу не осилило материал, растянувшись еще на полгода, стылый яд разлуки все же был впрыснут в их общую кровь именно здесь. Никогда и никому, даже РЭ, он не признавался, что жалеет о случившемся. Вернее – о недослучившемся. Вернее... Тут до него донесся дрожащий звук колоколов со звонницы брусничной церкви, который на таком расстоянии вроде бы не должен быть слышен.
Стоило этой давней истории во всей безжалостной полноте ожить на перепутье сирых окраинных улиц, как он подумал, что если следствие ищет подчистку на карте выданной свыше судьбы, то он уличен. Но вскоре он усомнился в догадке, ибо вынутое из тайничка больное и сладкое чувство стушевалось, и следствие – возможно, в поисках большей провинности – продолжило дотошные изыскания. Безвольно потакая событию, он также двинулся дальше, устремив стопы к трем стоявшим семейным рядком типовым магазинам, чьи стеклянные двухэтажные лица, однажды напросившись на комплимент дворового острослова, навсегда обрекли себя на драматическое имя «три сестры». И поныне отгораживались они от проезжей части милым провинциальным шиповником, хотя фасад средней «сестрицы» был теперь забран кирпичом с аккуратно выложенными арочными окнами. Однако ничего существенного, то есть качественно сравнимого со страстями по РЭ, ни ему, ни, вероятно, затейнику сыска в той местности не открылось. Как снулая рыба всплыл из детства бледноватый день, когда он вывел в спичечном коробке из найденной хвостатой куколки глазастую муху, подернутую пчелиным пушком, но радость открытия была отравлена отцовским всезнанием: «Навозная». Следом плеснул на изнанку чувств запахами и шорохами влажный Батуми, куда однажды занесло его в пору студенчества и где вечером на галечном пляже, засвеченном мощными прожекторами пограничников, он ел черствый хачапури, запивая его арбузом, и едва слышно, точно проверяя строй инструмента, повторял только что набело сочиненные строки: