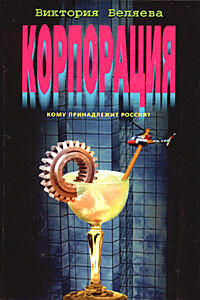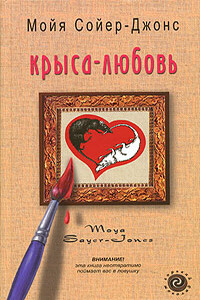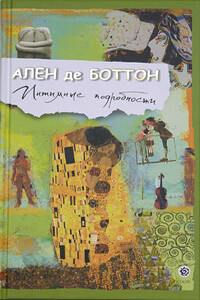Очень женская проза | страница 18
Почему-то мне кажется важным помнить все, что связано с именем сестры. Обрывочные кадры воспоминаний оживают яркими снимками – всегда очень яркими, до неправдоподобия солнечными. Тот день, когда Надька, развалясь на кровати, рассеянно диктовала мне формулу любви, врезался в память столбом солнечного света, отфильтрованного частым ситом заоконной листвы, по-майски свежей, радостной, глянцевитой. Солнце сочилось в Надькиных волосах, собирая в них радугу, солнце пахло чистой горячей кожей, молодостью, счастьем, безразличным к чужим словам и слезам.
Надькины глаза, оттаявшие до ангельской прозрачности, были почти безумны – взгляд бродил в дальних далях, не спотыкаясь о стены и мебель, сквозил, скользил по моему лицу, точно ни лица моего, ни самой меня не было. Равнодушие Надькиного счастья оскорбляло, ее слепая улыбка, предназначенная не мне, не кому другому, а чему-то цветущему внутри ее, привела меня в ярость. Я была отвергнута, отставлена, забыта. И брезгливо стряхнула руку, рассеянно прихлопнувшую мою ладонь.
Все, решительно все принимали участие в этом действии, к моменту отъезда принявшем неприятный характер фарса. И материны подруги, млеющие от жалкой дозы наливки на кухонных консилиумах, которые неизменно заканчивались грустными хоровыми песнями. И Надькины подружки – притихшие, испуганные случившимся и явно завидовавшие, – впрочем, подружки вскоре были отставлены. И даже жилистый старик, что носил нам молоко и по осени кормил меня древесно-жесткими, удивительно кислыми яблоками, которые Надька звала «вырви глаз». В одной из летучих бесед с матерью на крыльце, в процессе обмена литровой банки, пахнущей до отвращения жирно и сладко, на смятую денежку, – не удержался:
– Выросла девка, выросла. Серьезная такая была, скучная, бледненькая – навроде больная. А теперь гляжу – как на крыльях летает! К свадьбе готовитесь, а?
– Да уж, – мать собрала губы в гузочку. – Не трави, Григорьич, без тебя тошно. Все у нее через зад, все не как у людей.
Григорьич хитро скалился, покачивая головой. Большие мятые уши вздрагивали, топорщась в улыбке.
– Ничё, ничё, образуется. Староват он для нее, конечно, зато любить крепче будет. Ничё. Девка умная, на что ей пацанва?
В нашем пригороде, неистощимом на сплетни, тысячеглазом, всезнающем, благословенном пригороде, не бывает тайн. Надьку в глаза звали невестой, за глаза же недоумевали – на что позарилась-то? Мать запиралась с ней в спальне, откуда слышались сначала невнятные бормотания – мое ухо, прильнувшее к двери, различало лишь интонации, – потом голоса становились все громче. «Дура, – кричала мать. – Да не бросит он ее, не надейся». – «Я люблю его, это мое, не смей…» Дальше подслушивать не было охоты. Несколько месяцев продолжалась эта катавасия и оборвалась разом после знакомства с отвоеванным зятем – чин по чину, за семейным обеденным столом, крытом праздничной скатертью с цветами, – после сурового Надькиного: «Уеду, не удержишь!» – все притихло.