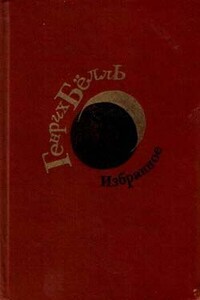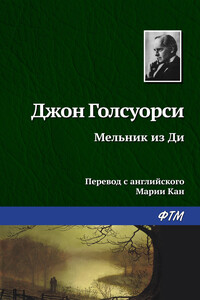О самом себе | страница 2
Мое первое воспоминание: возвращение домой гинденбурговской армии – аккуратные серые колонны с лошадьми и пушками уныло двигались мимо наших окон; сидя на руках у матери, я глядел на улицу, где нескончаемой вереницей тянулись солдаты к мостам через Рейн; позже мастерская моего отца – запах дерева, запах клея, лака, морилки, свежевыструганные доски, сарай на задворках доходного дома, где разместилась мастерская. В том доме жило больше людей, чем в иной деревне; они пели, ругались, развешивали белье на сушилах; еще позже: звонкие германские названия улиц, на которых я играл, – Тевто-бургерштрассе, Эбуроненштрассе, Веледаштрассе, и воспоминания о переездах с квартиры на квартиру, переездах, которые любил мой отец – мебельные фургоны, пьющие пиво грузчики, печально качающая головой мать – она всякий раз привязывалась к новому очагу и никогда не забывала снять кофейник с огня, прежде чем кофе закипал. Мы всегда жили недалеко от Рейна, и дети обычно играли на пароме, во рвах старых укреплений, в запущенных парках – садовники вечно бастовали; воспоминание о первых деньгах, которые мне дали в руки: это была купюра с цифрой, достойной банковского счета Рокфеллера – один биллион марок; на нее я купил длинный полосатый леденец; чтобы расплатиться со своими помощниками, отец привозил деньги на тачке; несколько лет спустя марка вновь стабилизовалась, и каждый пфенниг был уже на счету; школьные товарищи клянчили у меня на переменах кусочек хлеба – их отцы были безработные; беспорядки, забастовки, красные знамена – вот что я видел, когда ехал на велосипеде в школу по улицам самых густонаселенных кварталов Кельна. Спустя несколько лет безработные оказались пристроенными – они стали полицейскими, солдатами, палачами, рабочими военных заводов либо попали в концлагеря; статистика подтверждала процветание, рейхсмарки текли рекой; расплачивались по счетам позже – нами, когда мы, к тому времени неожиданно став мужчинами, старались расшифровать постигшую всех нас беду, но не могли найти подходящего кода; сумма страданий была слишком велика, чтобы взыскать ее с тех немногих, кого явно можно было назвать виновными, получался остаток – он и по сей день еще не поделен.
Писать я хотел всегда, сызмальства брался за перо, но лишь потом нашел слова.