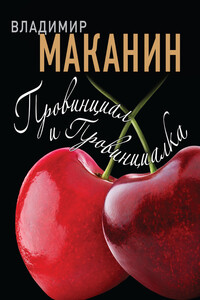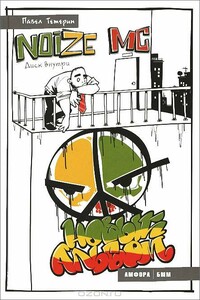Отставший | страница 52
— Ну ты! — Лера вдруг окончательно взорвалась. — Ты опять со своими прожекторами, умник несчастный. Ты еще про теорему скажи — мол, преломление света!
— Но ты не лучше со своим культом выстрела, Василий твой тоже не все знает о тюрьмах...
Тут она побелела:
— Как ты можешь? он не ты — он несколько лет спал на нарах!
— Ну и что?
— Ты!.. Ты!.. Убирайся!
Она задыхалась.
— Лера, — я спохватился. — Лера. Прости...
— Убирайся. Уезжай! Видеть тебя не хочу!
Весь день я пытался вернуть ее расположение, но Лера только мрачно качала головой: нет.
Я каялся, просил прощения. «Лера, так получилось, Лера, язык — враг мой. Прости...» — я оправдывался, напоминал о том, как долго и как хорошо мы дружили — ведь полтора года, почти два года, я ее любил, когда мы сидели рядом на лекциях и бродили по аллее молоденьких тополей, и там никого не было, только птицы! Голос мой дрожал.
Лера была непреклонна:
— Ладно, ладно. Я не сержусь... Но уезжай.
(Барак, и латунный рукомойник, и гору Безымянку, и двух милиционеров, играющих в домино на теневой стороне, и кусты шиповника — все надо было оставить. И после долго еще ощущать эту близкую слитность. И получал как чужое, и оставлял как свое.) Лера повторяла прямо и грубо:
— Когда же ты отвалишь?.. Уезжай. Надоел уже.
И еще:
— Я хочу здесь жить и сострадать Василию. Хочу, чтобы с ним была только я — понимаешь?
А я не понимал.
В таком вот состоянии болезненной друг от друга отчужденности мы поднимались на пригорок, в ту минуту, я кажется, ее попрекал, а Лера смотрела на небо, широкое, синее, долго смотрела, а потом сказала, ну что ты опять и опять ноешь? — ну, ладно, идем, идем... — и там же, на чудесной небольшой полянке, под молодой хвойной порослью с одной стороны и кустом шиповника — с другой я в десять минут получил то, чего так влюбленно и так пылко два года ждал (да полно — этого ли?) и на что потратил столько молодых сил, мыслей, нервов и бесконечное число слов. Потом мы опять шли по пригорку. Лера сказала:
— Ну?.. Теперь-то все в порядке?.. Теперь — проваливай.
Она невероятно скоро усвоила их речь. Более того, она стала много грубее Василия.
А я не понимал. И опять жил день за днем. Но что-то во мне все-таки перегибалось то так, то этак, и вот совсем тихо сломалось, как мягкая проволока, и я как-то вдруг сказал: «Уезжаю», — и стал собираться. Они проводили меня спокойно, по-доброму, словно бы я их попросил. Сначала мы ехали на грузовике. Затем Лера несла мой нетяжелый спортивный чемоданчик, а мы с Василием пожали друг другу руки, и Василий нес несколько бутылок самодельной бражки мне в путь-дорогу — я шел меж ними налегке, сам по себе.