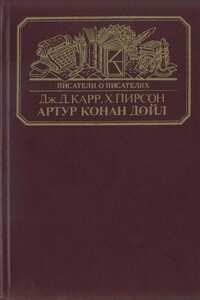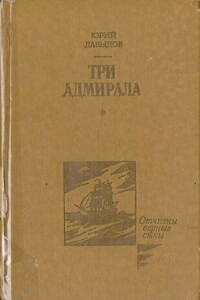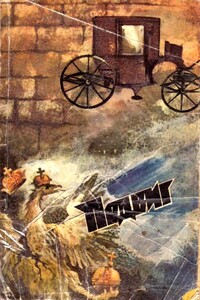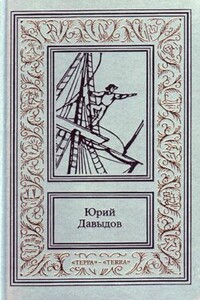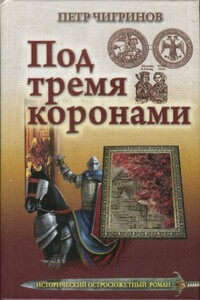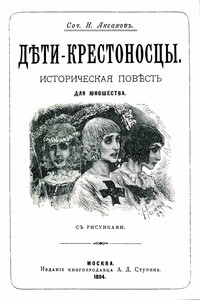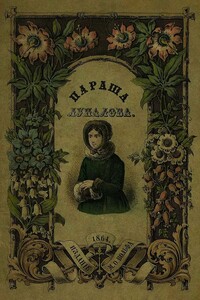Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... | страница 66
– Укажи мне такую обитель…
Глеб Иванович все так же шутливо польстил панегиристу системы «нестеснения»:
– Ах, Николай Николаевич, кабы ваш тезка-то посетил богоспасаемое Колмово, то, право, указал бы такую обитель.
Усольцев не мог не улыбнуться, но не мог не пустить и другую стрелу.
– «Я не люблю иронии твоей…»
Некрасовское «Я не люблю иронии твоей…» Глеб Иванович цитировал нередко. И еще вот это, для него интимно-трогательное: «Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны».
И теперь уже совсем нешутливо, а как бы искательно, с какой-то беспричинной боязнью отказа, он позвал доктора в Чудовскую луку, от Сябриниц близкую.
В Чудовской луке, рядом с охотничьим домиком, лежал могильный камень, надпись извещала, что под камнем покоится Кадо, черный пойнтер.
Кадо погиб при исполнении служебных обязанностей: его сразила шальная охотничья пуля. Страстен был пойнтер в здешних лесах, на болотах-лединах, а в домашней праздности, в Петербурге, на Литейном, снисходительно-добр.
– Здравствуйте, Кадо, – почтительно говорил Успенский, снимая в гардеробной пальто и калоши. – Здравствуйте, маркиз. – В черном пойнтере угадывалось нечто старофранцузское, аристократическое, гобеленное. Он смотрел на Успенского пегими, философически-печальными глазами. – Вы славный, вы замечательный, – продолжал Успенский, оглаживал длинную жесткую спину пойнтера и трогая подушечками пальцев нежную шелковистость за ушами. – Вы прекрасны, Кадо, но швейцар вашего замка отвратителен.
Внизу, в парадной, состоял в ливрейной должности сивый, плоскомордый холуй. Дока по части обхождения, швейцар делил посетителей на «плюгавых» и «настоящих». Первые, Успенский в том числе, обращались на «вы», вторые – «тыкали».
А Кадо был снисходительно-добр ко всем, кто приходил к Некрасову. Кадо облаял бы только чиновников цензурного ведомства. А это не только простительно, но и похвально. На цензоров не худо было бы напустить и Топтыгина – в углу прихожей скалился бурый медведь; поднявшись на дыбы, Михайло Иваныч опирался на суковатую орясину.
В кабинете Некрасова, в шкапу, стояли охотничьи ружья. Рассказывали: Николай Алексеевич бьет, как бритвой режет. Успенскому казалось, что в лесах, на болотах, на току Некрасов очень похож на Кадо: поджарый, сухой, весь в напряжении.
– Ах, отец, – проговорил Некрасов усталым голосом и жестом показал на кресло. – Ах, отец, да что же это вы за несчастный такой?
– Опять? – встревожился Успенский, подозревая очередную пакость комитетских цензоров.