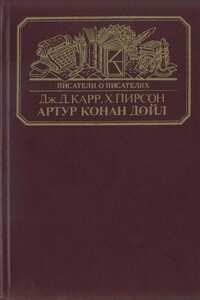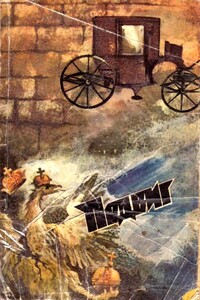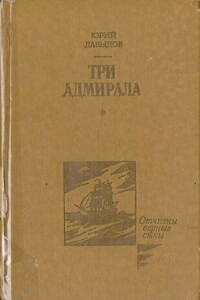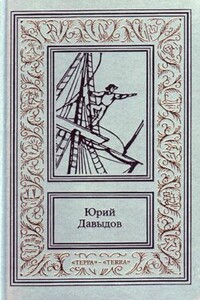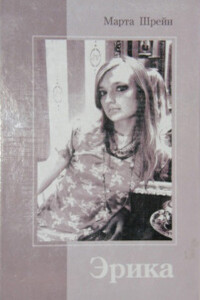Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... | страница 163
Что же наш атаман?
То, что я сейчас скажу, я скажу без тени злорадства. Каково бы ни было мое личное отношение к Ашинову, но лишь законченный мерзавец мог бы злорадствовать в этом случае.
Итак, атаман получил ультиматум. Судьба колонии стояла на карте. Речь шла уже не о путях ее жизни, нет, о самой ее жизни. И вот человек, поражавший нас каким-то едва ль не сверхъестественным спокойствием, человек, который столько раз твердил о вероятности вражеского нашествия, столько раз предупреждал о бдительности, этот человек совершенно растерялся. До такой степени, что даже как бы и не верил в то, что было написано черным по белому. Казалось, его разбил нравственный паралич. (Этот первоначальный паралич потом как-то заслонился и как-то призабылся.)
Надобно и на себя оборотиться.
Да, я, Н.Н.Усольцев, находился в Обоке, когда там собрались военные корабли, а в доме г.Лагарда собирались их капитаны. Да, я это все видел, и я в этом ничего не увидел, хотя и смутно чувствовал неладное. Да, мне, Н.Н.Усольцеву, сделал некоторые, хотя и темные, намеки капитан Верон, а я не ухватил их сути. По словам Гиппократа, наилучший врач тот, кто обладает умением предвидения; очевидно, наилучший дипломат таков же. Правда, я дипломат наихудший из всех, какие были, есть и будут. Правда, наконец, и то, что, сообщи я даже своевременно о подготовке французов, мое сообщение наверняка приняли бы как сообщение agent-provocateur26. Но это не снимет с меня вины перед вольными или (теперь уж лучше так выразиться) невольными казаками.
Все так. Однако, замыкая собственный приговор, следует еще признаться в том, что приговор этот несколько принужденный, в нем натяжка, он – ab honers27. Винясь, я не ощущаю за собой вины подлинной или, по крайней мере, непростительной.
Но все это в сторону.
Итак, наши колонисты сбежались на берег и смотрели на вражеские корабли.
Эскадра между тем подошла и встала на якоря так, что было отчетливо все видно. На боевых судах были флаги республики, знаменитые трехцветные флаги, при виде которых в ушах звучит «Марсельеза», а на языке вертится: «Либерте, эгалите, фратерните».
Не прошло и минуты, они открыли орудийный огонь по берегу и форту. Толпа взвыла, шарахнулась, ударилась врассыпную. Никто и не подумал подобрать раненых. То было паническое, безоглядное бегство.
Я слышал грохот и вой; меня проняло ужасом, когда рухнула часть стены и в застенок хлынул ослепительный свет, у меня будто отнялись ноги. Я увидел своего стражника, Бицко Калоева, у него была снесена половина черепа и мозг обнажен, но я и тут не шевельнулся. Мне казалось, что я пробыл недвижным очень долго, но, вероятно, оцепенение длилось секунду, другую, и вдруг меня подхватило, подхватило и понесло, как сухой лист, гонимый бурей.