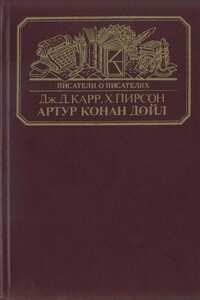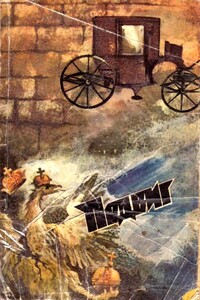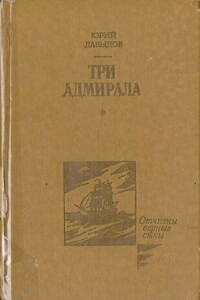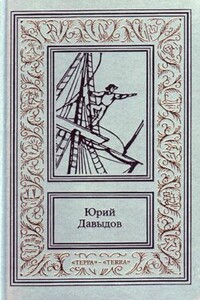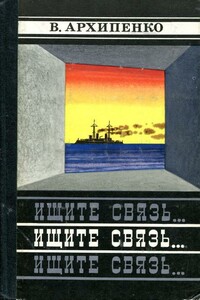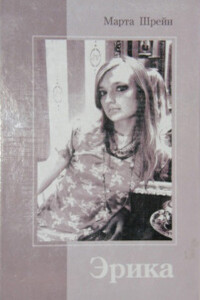Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... | страница 156
И что же? Вот еще пример неискоренимой склонности к иллюзиям, или, если хотите, душевной робости: я не хотел, не мог до конца принять мысль о виновности Н.И.Ашинова в умерщвлении Михаила Пан. Федоровского.
Эту мысль я отгонял, даже получив записку от товарищей, участников нашей маленькой общины. (Тут помог мой недреманный страж Бицко Калоев. Он долго недоумевал: «Ты – добрый, атаман – умный. Зачем у вас нехорошо получается?..» Видимо, поразмыслив, милый Бицко признал превосходство «доброты» над «умом». Сперва Калоев втихомолку открыл моим друзьям мое заключение, а потом и записку принес.)
Так вот, в том письме говорилось, что Михаил Пан. решительно восстал, что он обратился к вольным казакам с призывом воспротивиться разоружению и что Федоровский погиб как раз после своего открытого обличения атамана. Правда, авторы письма ни словом не обмолвились о том, что Н.И.Ашинов, именно он, а не кто-либо другой, был в первую голову заинтересован в устранении Федоровского.
Письмо ошеломляло не общей посылкой, а неспособностью нашего интеллигентного меньшинства выступить дружно и сплоченно. И что самое-то ужасное? Не то даже, что заговорило чувство самосохранения, не то даже, что выказалась постыдная, но, прямо сказать, естественная и ординарная трусость; нет, не это самое ужасное, а то, что тотчас нашлись среди нас, которые пустились в рассуждения о необходимости жертв и утрат, неизбежных на крутых перевалах.
Я далек от того, чтобы каждого, кто рассуждал подобным образом, подозревать в элементарной трусости. (Повторяю, это-то как раз и не было бы столь ужасным.) Выходило, что интеллигентное меньшинство, хотя и не все, но почти все, подтверждало мысль Н.И.Ашинова, высказанную некогда вскользь, – о дряблости, шаткости нашего брата.
Но ведь (и тут у меня тупик, тут для меня круг замыкается!), согласно доктрине, мы не должны были ничего навязывать народу после того, как он обосновался и устроился по-своему. Это ведь там, в старой России, народолюбец обязан был всем жертвовать, поднимая задавленного мужика, а тут была не старая Россия, и вот этот самый пахарь и сеятель не поднялся стеной – отдельное и разобщенное не в счет – не выступил, так что же было делать интеллигентному меньшинству?
(Сознаю, что пишу темно, но яснее не получается; к тому же, как у меня постоянно выходит, трудно положить на разные полки тогдашние мысли и чувства и теперешние, когда прошедшее давно прошло).
Я уже говорил, что потребовал свидания с Ашиновым в первый же день заточения. Отчего атаман не принял меня сразу по возвращении из Обока? Конечно, он прекрасно понимал, что я отнюдь не равнодушен к его «коренным переменам», и поэтому, может быть, хотел подавить и устрашить меня казематом. А может, ему надо было какое-то время, чтобы «поладить» с нашей маленькой общиной, не позволив мне влиять на товарищей? Или он желал поставить меня перед фактом «умиротворения» интеллигентного меньшинства, когда я очутился бы в положении того прапорщика, идущего не в ногу, в то время, когда вся рота идет в ногу?