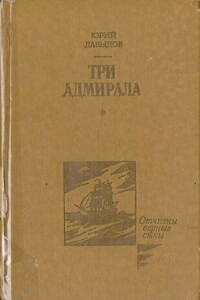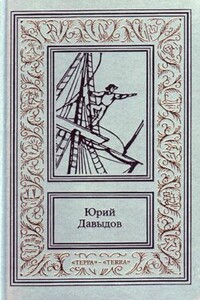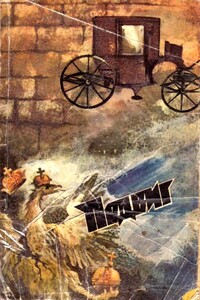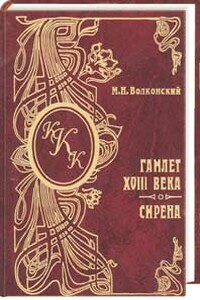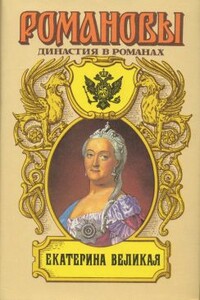Март | страница 89
Лицо Клеточникова исказилось. Он сел, прислонился сутулой спиной к подушкам. Кашель колотил, как колотушкой, и вот уж подступало то, к чему он никак не мог притерпеться. Он поднес к губам платок и закрыл глаза, Он чувствовал, как платок становится тяжелым и влажным. И зазвенело в ушах, а тело будто теряло вес, делаясь легким и ломким… Приступ отпустил, но звон в ушах и слабость остались. Николай Васильевич сполз с подушек, опасливо перевел дыхание.
Ах, если бы Мария была с ним! Почему-то при слове «Ялта» сперва видишь что-то круглое и желтое, как желток. Чудно: ничего не было – ни круглого, ни желтого. Они прогуливались с Марией по каменистой дороге. Их обгоняли фаэтоны с полотняным верхом, татарские ослики тащили корзины, полные винограда. Из расщелины в скале бил ручеек. Ящерицы грелись на солнце, изумрудно мерцая. Там был совсем не тот покой, как в знакомых с малолетства пензенских лугах и лесах. Не раздольем веяло, но мудростью, и мерещилось что-то из мифологии, что-то об эллинах. И дорога, и горы, и дальнее море, и запахи теплого камня, виноградных лоз, кипарисовой смолы – все это укладывалось в гекзаметры, мерную мощь которых осознал только там, в Ялте… А рядом шла Мария, Мария Шлее, дочь немецкого колониста, и они могли молчать, не тяготясь молчанием… Он знал, что Мария никогда не примет его предложения, никогда не выйдет за него, что он для нее лишь добрый, внимательный друг. Он это знал и все же надеялся. Не надо было, не надо было говорить о любви, о своих надеждах. Может быть, поэтому все переменилось, и переменилось резко. И он уехал в Симферополь… Это ведь очень странно, у него всегда так: будто не от себя зависишь – от других. И в Петербурге то же. Не повстречайся Михайлов, не стал бы чиновником Третьего отделения, нипочем не стал бы.
Мысли Клеточникова вернулись к Третьему отделению, но не к службе в агентурной части, не к тем делам, которые ему приходилось вести в доме у Цепного моста, а к той загадке, которую он тщился разгадать: к натуре среднего жандармского чиновника, к тем, кто не лучше и не плоше простого обывателя, но творит душегубство, мерзость из мерзостей.
Еще не было ни «Народной воли», ни «Черного передела», а была единая «Земля и воля», когда Николай Васильевич приехал в Петербург. Он поселился близ Невского, в меблированных комнатах мадам Кутузовой. У Кутузовой квартировали студенты и курсистки. Народ бойкий, исполненный сил, на язык острый. В меблирашках то и дело устраивались вечеринки, чаепития, сходки, можно было слышать не только пылких оракулов с румянцем во всю щеку, но и какую-нибудь наивную девицу, которая говорила со слезами, что «революция умерла». И тогда оракулы махали руками: «Что ты! Что ты! Революция больна, ее надо лечить!»