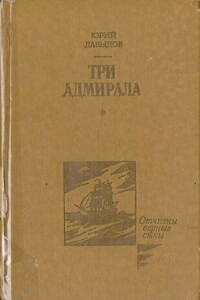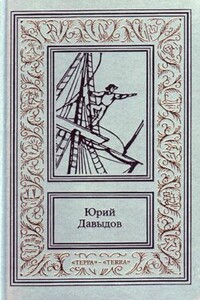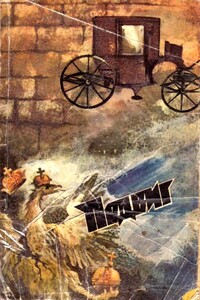Март | страница 122
«Ну и ну, – подумал Добржинский, – экий, однако, фарисей». Ему стало досадно: он, служитель правосудия, выказал себя чуть ли не инквизитором, а этот жандарм – почти гуманистом.
– Ах, Андрей Игнатьевич, Андрей Игнатьевич, я и не предполагал, сколько доброты в вашем сердце. Но, положа руку на это доброе сердце, вы не можете отрицать, что сами настояли на вызове бедных стариков. А?
Подполковник полез за новой папиросой.
– Ведь вам, как я понимаю, что нужно? – прилип Добржинский. – Вам нужно, чтоб имя Дриго, негласного осведомителя, не вышло из стен департамента. Ась? Не так ли, Андрей Игнатьевич? Чтоб верный Дриго не был назван в судебном заседании? Так ведь?
– Вы очень тонко понимаете наши заботы, Антон Францыч, – сухо и, как услышал прокурор, надменно отозвался жандармский подполковник.
Карета остановилась. Подъезд министерства внутренних дел освещала четверка газовых фонарей.
Помнилось все. Не потому, что было недавно, и не потому, что было давно: есть такое – запоминается навсегда.
Каурая кобыла в белых чулках. Из сиденья таратайки выпирала пружина. Отец стоял, повесив голову, а мама плакала навзрыд, прижимая ладони к щекам.
На дворе было чисто и холодно и пахло гречей. У соседей петухи уже отпели, как вдруг заголосил еще один и, точно бы оправдываясь, догоняя, голосил одержимо, хлопал крыльями. «Саша… – сказал отец, – Сашка ты мой…» На морщинистой шее запрыгал кадык. А он твердил как заведенный: «Вот и еду…» Слез не было, ни единой слезинки. Только все будто каменное: руки, ноги, голова, грудь. И хотелось поскорее уехать.
Двадцать верст до станции. Обрыв над Сеймом, далеко видны степи… Двадцать верст до станции. Рожь уже убрали. Воздух был тонок, прозрачен, а он ехал как в тумане, сглатывая слезы… Простая у них семья, семья захудалых дворян: отец – на жалованье землемера и вечно в отлучке, мать – за шитьем, по хозяйству. Сестры, брат… Простая семья, а дала ему главное: к людям любовь, ибо для матери с отцом все были люди, все человеки. Когда повзрослел, воли своей родительской они не навязывали: «Ступай, Сашенька, как сердце велит. Только не потеряй, спаси бог, самоуважения, будешь тогда хорошим и сильным». Не потеряй самоуважения… Он обрел гармонию совести и дела, а только она, эта гармония, дает настоящее счастье. Жизнь доставила ему столько светлых чувств, столько братских привязанностей, что, каково бы ни было будущее, не ему, право, роптать на судьбу… Одно горько: что сделал для них, дорогих и постоянно любимых? Ничего не сделал. Но сказано: «Оставь отца, и матерь твою, и ближних твоих и иди, куда мы зовем…» Дом, родные путивльские края. Один только день был дома, мучительно-счастливый день. И вот нынче, здесь, в этой тюрьме, спустя три с лишним года довелось взглянуть на маму, на отца.