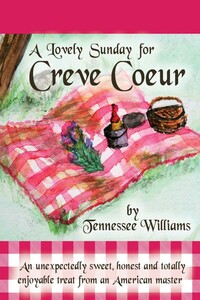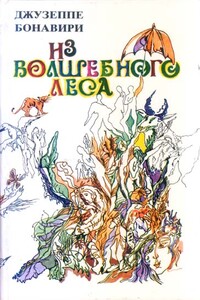Римская весна миссис Стоун | страница 30
– Десять миллионов лир – очень большие деньги, – сказала миссис Стоун.
– Что значат деньги, если речь идет о дружбе?
– Но когда речь заходит о такой большой сумме, обычно за этим стоит нечто поважней дружбы, я так понимаю, – сказала миссис Стоун.
– Что может быть важнее дружбы! – воскликнул Паоло. – Дружба прекрасней всего на свете!
– Это кто вам такое сказал? Неужели миссис Кугэн?
– Миссис Кугэн?
– Да, Паоло, да, но я-то не оставляю своих изумрудов и бриллиантов в мыльнице, – мягко проговорила миссис Стоун.
– Не понимаю, о чем вы.
– У меня изумрудов и бриллиантов нет, так, каких-нибудь два-три бриллиантика, но будь у меня изумруды и бриллианты, я б ни за что не оставила их на ночь в мыльнице. И потом. Паоло, caro, вот еще что: когда настанет такое время, что я уже ни для кого не буду желанной сама по себе, я, видимо, предпочту, чтобы меня не желали вовсе.
И она ушла с террасы в комнаты. Еще не зажглись фонари и воздух был восхитительно чистого синего цвета, как в ночных эпизодах старых немых фильмов, цвета воды, куда добавили самую чуточку чернил.
Если Паоло решил ее бросить, вот-вот хлопнет дверца лифта и раздастся мерное жужжание тросов, уносящих его вниз. Боязливо ждала она этих прощальных звуков, но их не было – лишь доносился с улицы едва слышный посвист ласточек, пролетающих мимо ее окон. У миссис Стоун отлегло от сердца, и она честно призналась самой себе, почему. Ведь ей не хочется, чтобы он ушел. А когда стало ясно, что он остается, впервые в жизни в ней вспыхнуло ничем не замутненное желание. Неподвластное ни рассудку, ни воле. Ибо это же безрассудно, да и вовсе ей ни к чему – желать мальчишку, который только что сам сорвал с себя привычную маску галантности, отбросил всякую видимость благоприличия, показал, что он и на самом деле такой, как о нем только сегодня говорила графиня, желая предостеречь ее от опасности. «Паоло – он, как бы это выразиться, немножко…» – какое она употребила слово? Ах, да – marchetta! Значит, чуть повыше достоинством, чем шлюха, но все-таки продажная тварь, а выше шлюхи он, пожалуй, единственно в том смысле, что намного дороже, предмет роскоши, только более изысканной, – то, что французы именуют «poule de luxe»[15]…
Тут миссис Стоун рассмеялась жестким смехом – такой звук мог бы издать ястреб, изготовясь к броску. Ясно ведь, что сейчас произошло на террасе. Мальчик выложил счет и потребовал предварительной оплаты услуг, которые готов оказать ей, она же счета не оплатила, нет, но и не выгнала торгаша, а столь же хитроумно, как он, дала понять, – дала, не так ли? – что соглашение возможно, но лишь на приемлемых условиях: если цена будет без запроса. «Когда речь идет о такой большой сумме, обычно за этим стоит нечто поважней дружбы». И разве она не прикинула мысленно, сколько же это будет в долларах, и разве сейчас, вот в эту минуту, не ждет, чтобы он назвал цену без запроса? С тремя предшественниками Паоло ей удалось сохранить достоинство – она оплатила вперед их благосклонность, но не потребовала ее доказательств. И все-таки графиня раскусила ее: недаром после каждого отказа старуха выкладывала на прилавок новый, более заманчивый товар, покуда дело не дошло до Паоло и не закончилось им. И вот тут миссис Стоун почему-то позволила себе впасть в заблуждение, довольно, впрочем, невинное: вообразила, что коль скоро ей предложен новый товар, то он и качеством лучше прежних, а значит, здесь возможен союз достойный и честный. Ну что ж, теперь с этой нелепой иллюзией покончено: то, что казалось ей отвратительной нелепостью, как раз и есть истина. Да, она совсем одинока. Но достоинство только и можно сохранить, оставаясь одинокой. Вот она и одинока сейчас в своей спальне над высокой Испанской лестницей. С тех самых пор, как она поселилась здесь, на нее смотрят лишь ее собственные глаза – из зеркала, а постель у нее широкая и белая, словно заснеженный пейзаж, на который легла с наступлением сумерек синеватая тень. «Letto» по-итальянски «постель, ложе», и спит она на этом «letto matrimoniale»