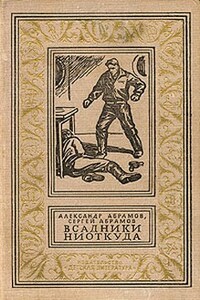Неформашки (Фантасмагория) | страница 19
А заводила-директор уже вновь барабан крутил. Вытащил номер:
— Пятый!
— Мой! Мой! — закричала Лариса. — Песню петь станем.
— Какую песню? — склонился к ней Умнов.
— Какую хочешь, Андрюшенька.
И уже давешние рокеры опять на эстраде возникли да плюс к их электронике из тех же дверей концертный рояль выплыл, а еще и баянист вышел, и скрипач не задержался, и два русоголовых балалаечника уселись прямо на пол, скрестив по-турецки ноги в кирзовых прахарях.
— Ой, мороз, мороз… — чуть слышно затянула Лариса, — не морозь меня… — голос ее крепчал, ширился, захватывал тесный зал, — не морозь меня, моего коня…
Умнов закрыл глаза. В голове что-то закружилось, замелькало, засверкало, песня почти стихла, голос Ларисы доносился, будто сквозь толстый слой воды. Что со мной, что? — лениво, нехотя думал Умнов, компоту, что ли, перепил? Ой, тяжко как… И, не открывая глаз, откинулся на стуле, попытался расслабиться: аутотренинг — великая вещь!.. Раз, два, три… двенадцать… двадцать один… Я спокоен, спокоен, я чувствую себя легко, хорошо, вольно, я лечу над землей, я ощущаю теплые потоки воздуха, они обвевают мое обнаженное тело, я слышу прекрасные звуки…
И словно сверху, с югославской четырехсотрублевой люстры, не открывая глаз, сквозь сомкнутые веки увидел родное застолье. Все внизу пели, пели разгульно и вольно, до конца, до беспамятства отдавшись любимому делу.
— Ой, мороз, мороз… — тянула Лариса.
— Нам всем даны стальные руки-крылья, — выдавал хорошо поставленным баритоном Василь Денисыч, отец Краснокитежска, истово выдавал, а верней — неистово, — а вместо сердца — не скажу чего…
— О Сталине мудром, родном и любимом, — пели складным дуэтом два пожилых тенора в серых костюмах — тоже, видать, из Отцов, встречавших Умнова у границы Краснокитежска, — прекрасную песню слагает народ…
Три томные девицы в сарафанах и кокошниках — из Ларисиной команды — самозабвенно голосили:
— Влюбленных много — он один, влюбленных много — он один, влюбленных много — он один у переправы…
Мощная дама, требовавшая давеча фолк-рока, пела сквозь непрошено набежавшие слезы, рожденные, должно быть, сладкой ностальгией по ушедшей юности:
— Ландыши, ландыши, светлого мая привет, ландыши, ландыши — белый букет…
А ее сосед — ее ровесник — обняв могучий стан женщины и склонив ей на плечо седую гривастую голову, подпевал ей — именно подпевал:
— Знаю: даже писем не придет — память больше не нужна… По ночному городу идет ти-ши-на…
И еще звучали в зале знакомые и незнакомые Умнову песни, романсы, арии и дуэты! А скрипач на эстраде играл любимый полонез Огинского. А пианист играл любимый чардаш Монти. А баянист играл музыку к любимому романсу про калитку и накидку. А балалаечники играли любимые частушечные мотивы. А фолк-рокеры играли сложную, но тоже любимую вариацию на тему оперы «Стена» заморской группы «Пинк Флойд». И все звучало не вразнобой, не в лес по дрова, а на диво слаженно, стройно, как недавно — во время встречи на границе города. Там, помнилось Умнову, этот престранный эффект унисонности уже имел свое загадочное место…