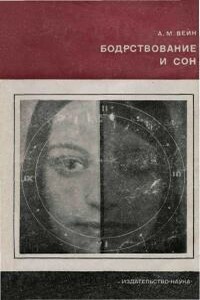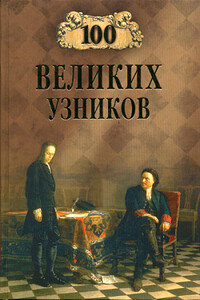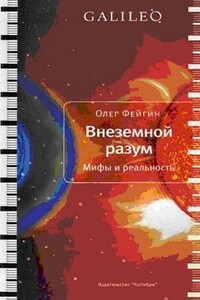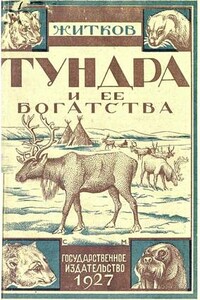Сон - тайны и парадоксы | страница 15
Классификация Лумиса и его коллег продержалась без существенных изменений лет пятнадцать. Потом ее решили упростить. Стадию А объединили со стадией В, четыре получившиеся стадии перенумеровали римскими цифрами — от I до IV.
Иногда мы будем пользоваться этим упрощенным вариантом. Но чаще всего нам достаточно будет самого простого деления — на дремоту, стадию сонных веретен и дельта-сна.
Парадоксальный сон
Бодрствование — состояние тоже неоднородное и его можно разделить на стадии. Собственно, это было известно всегда, но находилось за пределами исследований и классификаций.
Электроэнцефалография позволила разделить бодрствование на три стадии, или ступени. Верхняя, которую можно назвать напряженным бодрствованием, соответствует периодам самой интенсивной умственной и физической деятельности. Средняя — это, так сказать, нормальное бодрствование; оно весьма далеко от сна, но уже не связано с привычной деятельностью и особыми эмоциями не окрашено. Наконец, нижняя ступень — бодрствование расслабленное; крайняя его степень — переход ко сну на фоне внутреннего созерцания: человек еще не спит, но уже отрешен от внешнего мира углублен в себя. Здесь, как и во сне, каждой ступени соответствует своя картина биоэлектрической активности мозга.
Все разложено по полочкам. Кажется, можно сесть и спокойно поразмыслить о сущности и назначении сна, об его взаимоотношениях с бодрствованием… Именно такое настроение и было у физиологов, занимавшихся этой проблемой в начале пятидесятых годов, как вдруг перед их взором возник нежданно-негаданно парадокс, смешавший им все карты.
Парадокс так и назвали — парадоксальный сон. Открыл его в 1952 году аспирант доктора Натаниэля Клейтмана, руководителя лаборатории сна в Чикагском университете. Звали аспиранта Юджин Азеринский.
Клейтман изучал связи между биологическими часами и температурой, давлением крови, сердечной деятельностью и обменом веществ. Подобно английским физиологам, проводившим лето на Шпицбергене, он тоже пробовал переставлять биологические часы и вместе со своим помощником спускался в подземные пещеры Кентукки, где всегда была постоянная температура, постоянный мрак и снаружи не доносилось никаких звуков. Клейтману удалось навязать своему организму непривычный ритм сна и бодрствования. После этого он начал изучать тот же ритм у маленьких детей и, непрерывно записывая у них биотоки, доказал, что грудные дети в возрасте нескольких недель бодрствуют не два часа в сутки, как думали прежде, а целых восемь часов.