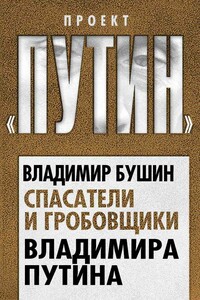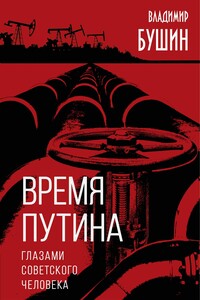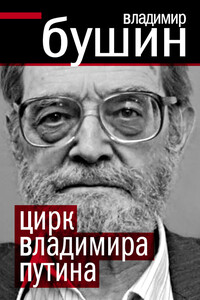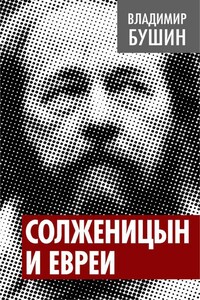Огонь по своим | страница 87
К Смирнову мы еще вернемся, а пока заметим, что жажда объективности принимает у профессора Качановского порой весьма избитые, уже осточертевшие формы. Так, с огорчением видим, что автор, совсем как Радзинский, считает, например, коллективизацию кошмарным делом, строительство Беломорско-Балтийского канала — преступлением; верит, что «завещание» Бухарина — это не ловкая пропагандистская проделка, а достоверный документ (ссылается на него!), который его вдова заучила наизусть и хранила в памяти пятьдесят лет, чтобы поведать Коротичу для публикации в «Огоньке»; самого Бухарина держит за славного добряка; Молотова и Маленкова называет «догматиками»… Хоть задумался бы, как же Сталин, которого он признает гениальным, мог долгие годы, десятилетия работать буквально рука об руку с догматиками на самых высоких постах? В таком случае, какой же он гений? Концы с концами никак не сходятся… Словно под диктовку Волкогонова пишет о Сталине: «Он был властолюбив. В борьбе за власть был жесток и беспощаден, не останавливался ни перед чем… Он использовал репрессии для укрепления своей власти» и т. п. Да ведь под всем этим с радостью подпишется любая демократическая сволочь.
А вот, горя желанием быть объективным, пишет: «Кто бы ни был виновен в развязывании Гражданской войны…» То есть он допускает, что виновны могли быть и большевики. Но зачем им война, если власть в их руках? За что им было воевать? Они думали о восстановлении разрушенного хозяйства, о мирном восстановлении страны. Да ведь сам же автор приводит слова В. Шульгина, идеолога и практика контрреволюции: «Мы объявили войну Ленину. Наступила Октябрьская революция. На нее мы ответили, взявшись за оружие». И это понятно: за оружие взялись те, у кого революция много отняла в интересах народа. Им было за что воевать.
Кое-что ученый адепт объективности досадно путает и в истории Великой Отечественной войны. Так, он уверяет: «Остановить противника Красная Армия смогла только в конце октября 1941 года». Это не так. Еще 30 июля верховное командование вермахта вынуждено было директивой № 34 предписать группе армий «Центр», наступавшей в ходе Смоленского сражения на главном — Западном, Московском направлении, перейти основными силами к обороне. В это же время на Лужской линии обороны была остановлена и группа армий «Север», наступавшая на Ленинград. Это был наш большой успех: за все время с начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года немецкая армия впервые была остановлена и перешла к обороне. Я уж не говорю о том, что наши войска и до этого предприняли ряд контрударов, даже контрнаступлений. Так, 23 июня, на второй день войны, 99-я стрелковая дивизия полковника Н. И. Дементьева вышибла немцев из Перемышля, занятого ими накануне, и удерживала его до 27 июня. А Ельнинская наступательная операция 30 августа — 8 сентября 1941 года, в ходе которой родилась советская гвардия, — как можно на страницах «Советской России» забыть о таких славных делах!