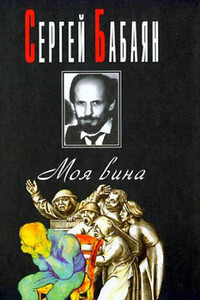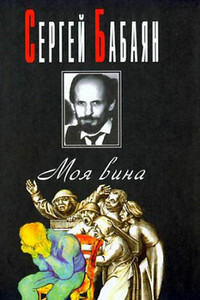Mea culpa | страница 22
Николай почувствовал, что ему надо куда-то идти. Он встал и пошел в туалет. Делать ему там было нечего, он постоял в холодном кафельном полумраке – в уши, спасительно усыпляя сознание, царапалось монотонное журчание проточной воды, – дождался Пилюгина из цеха – курносого, лохматого, синеглазого, – Пилюгин спросил: «Ты чего, с бодуна, что ли?» – он понял с трудом, не то кивнул, не то мотнул головой… вернулся в дежурную комнату. Он убил. Он засунул руки в карманы, сжал кулаки и какое-то время стоял, перекатываясь с пяток на носки и обратно. Всё было всё равно. Надо уходить. Невозможно было ни стоять, ни сидеть на месте. Надо было куда-нибудь идти не останавливаясь – чтобы каждую секунду вокруг него что-нибудь изменялось. Таких понятий, как смена, Немцов, показатели контрольных приборов, больше не существовало. Все это было никому не нужно. Он механически оделся – куртку не застегнул – и невидяще пошел к выходу. У открытой двери кабинета Немцова рефлекс заставил его остановиться. Немцов сидел за столом, что-то писал – седеющий горб головы между остроугольно вздернутыми плечами. Николай вошел и с порога сказал:
– Я пойду.
– Гра-га-га? – сказал Немцов. Лицо его было непонятно.
– Не могу, – сказал Николай – что-то говорило внутри него. – Я пойду.
И пошел.
– Ди-ди, – сказал Немцов ему в спину.
Он вышел на улицу – мороз царапнулся в грудь, плеснул колючей волной в лицо. Пелена в мозгу сразу как будто пыхнула клочьями – полетели обрывки мыслей, самое главное стало ослепительно ясно: он включил рубильник и убил человека. Что делать? Что делать? Что делать? Пока идти… он чуть не налетел на ярко-синюю на белом снегу фигуру. Фигура издала непонятный звук. Он сморгнул и увидел Наташку.
– Привет!
В нем вдруг вспыхнула ненависть – оттого, что его задержали… лицо яркое, накрашенное розовым, синим, алым, какими-то блестками, груди вытаращены арбузами…
– Здравствуй.
Он хотел пройти мимо. Она – плотоядно сверкнув зубами – заступила ему дорогу. Он с трудом удержался – не схватил за плечи и с размаху не отшвырнул ее в снег – валя с ног, чтобы она упала навзничь, плашмя, бревном…
– Ну, чего?! – рявкнул он.
– Ты что?… – кажется испугалась она.
– Че-ло-ве-ка убило, – яростно отчеканил он, отталкивая глазами ее лицо.
– Я знаю… – У нее дрогнули карминовые пухлые губы, круглые голубые глаза стали еще более круглыми, испуганными и глупыми… и чуть не плачущими. – Я знаю… Жалко как…
Вдруг он понял, что ей действительно жаль Бирюкова… что она добрая, хорошая баба, – все хорошие, один он – дерьмо, человека убил и теперь выплескивает на всех хороших, добрых, неубивавших людей свою мерзость и злость… В нем поднялось такое отвращение к себе, что заплясало лицо, он собрал все свои силы, чтобы не броситься опрометью бежать – туда, где не будет видно и слышно никого, ничего, – и пробормотал: