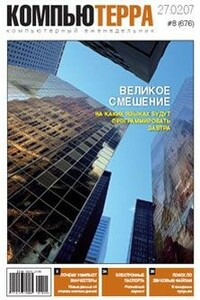Компьютерра, 2006 № 27-28 (647-648) | страница 40
Можно и так сказать: субъектом коммуникации у животных является сообщество в целом, по которому эти сигналы циркулируют (есть очень интересная работа Макгрегора по коммуникативным сетям в группировках [McGregor P., Peak T., 2000. Communication network: social environment for receiving and signaling behaviour//Acta ethol. Vol.2. P.71-81]). В коммуникации чаще всего участвуют не две особи, а три и больше. Кроме двух, которые ведут борьбу за социальный ресурс, некоторые наблюдают за исходом стычки этой пары, и исход влияет на поведение наблюдателей.
Еще раз подчеркну, что такая ситуация относится только к сообществам низших позвоночных. У млекопитающих и у самых умных птиц нет коммуникаций типа домино. Где проходит эта грань, нужно уточнять, но то, что эта грань есть, что у рыб, рептилий, многих птиц та особь, которая демонстрирует, является не более чем ретранслятором, а субъект коммуникации - сообщество в целом (где и наблюдается информационный эффект), вот это, как мне кажется, доказано и моими исследованиями, и теми, которые я цитирую.
Но интереснее всего другой конец спектра, который ближе к нам и где возникает речь в более человеческом понимании.
- Проблема в том, что наши ближайшие родственники знаковой системы не имеют, она полностью разрушена.
Почему она разрушена? Ведь необходимость обмена информацией существует, и он как-то осуществляется.
- Почему разрушена - я не знаю. Думаю, дело в положительной обратной связи - между сложностью социальных отношений и разнообразием сигнального репертуара. Чем больше сигналов, тем больше нюансов состояния партнера может различить индивид. Вероятно, это развивает и совершенствует его сознание. Индивиды становятся разнообразнее, разнокачественнее, и возникает слишком большой разрыв планов и программ поведения, с которым знаковая система типа домино не справляется. Ведь она всегда остается закрытой - нельзя передавать информацию о том, что еще не случилось; в ней невозможна продуктивность (способность из конечного числа слов строить бесконечное число предложений о чем угодно и связанная с нею готовность говорить). Нельзя в такой системе передавать результаты собственного опыта. Вероятно, столь примитивная знаковая оболочка входит в противоречие с развивающимся сознанием. Но я не териолог (специалист по млекопитающим) и рассуждаю здесь скорее гадательно.
Наш язык отличается от знаковых систем позвоночных тем, что слова кодируют концепты, а не действия, не события. Даже просто называя предмет, слова языка выражают некоторую идею относительно данного предмета. Например, по-немецки «понятие» - der Begriff, begreifen - «понимать», а greifen - «хватать». То есть за словом стоит вполне чувственная идея схватывания и манипулирования в своих интересах, которая постепенно вырастает до абстрактного понятия. Точно так же, как русское «понять» происходит от «поять», то есть «познать в сексуальном смысле». Большинство терминов, относящихся к пониманию и действию, в буквальном варианте обозначают схватывание и манипулирование.