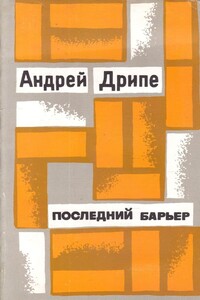Люди, годы, жизнь. Книга II | страница 47
После революции в русскую литературу вошли яркие, несдержанные, насмешливые и романтичные южане; они нас слепили, смешили, вдохновляли - Бабель, Багрицкий, Паустовский, Катаев, Светлов, Зощенко, Ильф, Петров, Олеша…
Мальчиком я гостил у тети Маши; она арендовала хутор возле Борисполя; там на ярмарке я слышал, как слепцы пели старые песни. Много лет спустя я услышал, как М. Ф. Рыльский читал свои стихи, и было в этом нечто мне знакомое - лукавая и нежная музыка украинской речи.
В киевской Софии я провел немало часов. Часто противопоставляют византийское искусство древнегреческому; разумеется, Христос-Пантократор, требовательный и суровый, связанный не только с синим небом Греции, но и с фанатично-полицейским строем великой империи, не входит в мир кентавров и нимф. И все же Византия сохраняла гармонию Эллады; ее отсвет дошел до древнего Киева. В Софии я чувствовал не только груз веков, но и легкость, крылья искусства.
Я люблю барокко Киева; его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием; это не гримаса, а улыбка. Мне жаль Михайловского монастыря, он хорошо стоял, был милый дворик. Конечно, Андреевская церковь лучше, но зря его снесли… (Футуристов обвиняли в неуважении к искусству прошлого; но у футуристов были перья, а не ломы. В тридцатые годы порой так рубили лес, что летели не щепки - вековые камни. В 1934 году я видел, как в Архангельске взрывали здание таможни петровского времени, я спрашивал - почему, мне отвечали: «Мешает уличному движению», а в Архангельске автомобили были наперечет.)
Война нанесла Киеву много ран. Немцы взорвали собор Лавры. Крещатика не стало. Потом сделали тротуары, поставили вазы с цветами, милиционеров. А потом улицу отстроили. На старом Крещатике не было памятников старины, и он мне мил только воспоминаниями. А в Москве я живу на улице Горького и пригляделся к той архитектуре, которую теперь называют «украшательской», хотя ничего она украсить не способна. Зато я восхитился, увидев новый проспект над Днепром: Киев теперь может присесть на скамеечку (разумеется, в тихую погоду) и проверить, до чего чуден Днепр… Похорошели зеленые Липки. С Подола сияли клеймо отверженности.
Нет, Киев мне не чужой! Первые мои воспоминания - это большой двор, куры, бело-рыжая кошка, а напротив дома (на Александровской) красивые фонарики - там помещалось летнее увеселительное заведение «Шато де флер».
С Киевом связано немало событий в моей жизни. В 1918-1919 годах там существовала художественная школа Александры Александровны Экстер, «левой» художницы, которая выставлялась в Москве вместе с бубнововалетцами и делала постановки в Камерном театре. В школе учились дюжина молоденьких девушек и несколько юношей. Среди учениц А. А. Экстер была восемнадцатилетняя девушка Люба Козинцева. Она заинтересовалась мною, узнав, что я знаком с Пикассо. Что касается меня, то я заинтересовался ею, хотя она была знакома только с Александрой Александровной. Я начал ходить на Мариинско-Благовещенскую, где жил доктор Козинцев. Конечно, репутация у меня была шаткая; но шатким тогда было все. Гетмана сменил Петлюра, Петлюру прогнала Красная Армия. Люба с товарищами расписывала агитпароход. Швейцар «Литературно-артистического клуба» философствовал: «Сегодня навыворот, а завтра за шиворот». Я продолжал писать стихи, но в многочисленных анкетах на вопрос о роде занятий отвечал уже не «поэт», а «служащий» - я работал в нескольких советских учреждениях. Впрочем, все это к делу не относится. Люба украдкой приходила ко мне - я снимал тогда комнату на Рейторской. Несколько месяцев спустя мы, никого об этом не предупредив, направились в загс, пробираясь через спящих красноармейцев и тюки, отобранные продкомом.