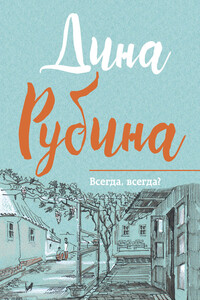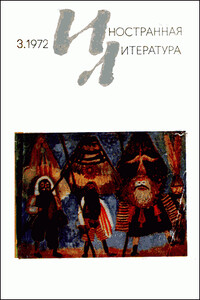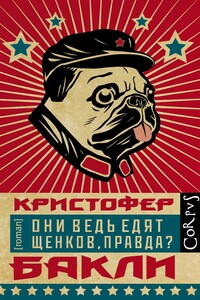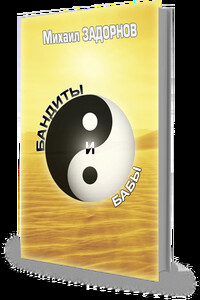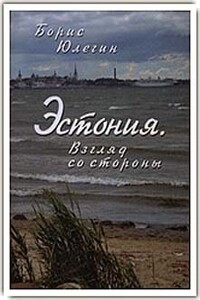Беседы о доме, о Москве, об Иерусалиме | страница 22
"Солидарность" же штука эфемерная, зависит от атмосферного давления. Что нам японцы, например, – симпатичные, далекие, старательные и умные? Хиросима там, Нагасаки, невинные мирные жертвы, ну и так далее… А стоило российской команде проиграть японцам, и пошли наши болельщики громить все вокруг, и даже побили, если память не изменяет, троих японских музыкантов, приехавших на конкурс Чайковского. Ну ее к черту, эту солидарность, Саша. У нее очень много оговорок и подкладка загажена. Давайте просто будем друг друга уважать и соблюдать законы, нравственные и юридические, над которыми человечество немало потрудилось.
Подкладка загажена и у любви, и вообще нет такой ценности, во имя которой бы не творились моря жестокостей и мерзостей. И уважать друг друга для меня означает в том числе еще и выслушивать без мордобоя самую жестокую правду о моих близких. Если моя дочь действительно "б…", то на констатацию этого факта я лишь скорбно кивну: "Увы, вы правы".
Одно другого не исключает. Это может быть и правдой, но по морде – надо обязательно! Причем, желательно до того, как успели констатировать факт.
Но в вашем переносе акцента с солидарности на любовь, я думаю, правы вы. Термин "солидарность" активно использовал великий Дюркгейм (Дюркхайм), сын раввина, создавший французскую социологическую школу. Основой "органической солидарности" он считал общую систему разделения труда. Но в национальном чувстве, быть может, еще более важно эстетическое чувство, о котором вы говорите.
Я говорю не об эстетическом и даже не об этическом чувстве, а о родственном, корневом, обреченном на… Саша, не ускользайте! Не пускайтесь в рассуждения! (Мой дед, когда хотел уличить меня в чем бы то ни было, кричал: "смотри мне в глаза!") Вы, автор замечательного романа "Исповедь еврея", – смотрите мне в глаза!
По поводу же – "выслушивать мнение чужого и скорбно кивать"… Попробую ответить, не отшучиваясь… Меня не интересует мнение "чужого", ибо я знакома с такими темными сторонами "своего", с такими безднами, пороками и низотой, о каких "чужой" даже и не догадывается. Поэтому, когда я начинаю разбираться со "своим" сама, "чужой" пусть под ногами не путается. А "своему" я и сама могу сказать все за милую душу, мне пособничество "чужого" в этом деле не требуется. Может быть, тут дело в темпераменте, может быть, в том, что я человек совсем не новозаветный. Никогда никакого желания подставлять ни левую, ни правую щеки, у меня не было. Мне милее другой постулат моей веры, постулат великого мудреца Гилеля: "Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтоб сделали тебе". В эмиграции, где по первоначалу смещаются все привычные координаты – и этические, и эстетические – только эта нравственная установка и помогает держаться на плаву. Во всех смыслах.